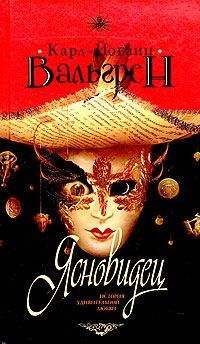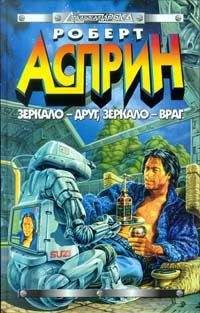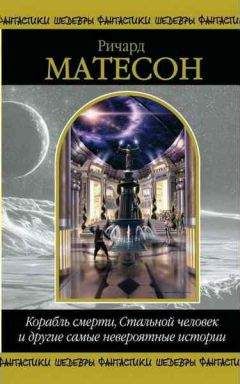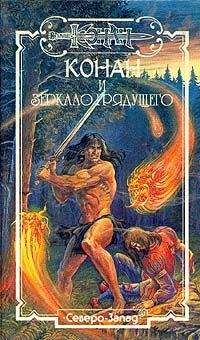Карл-Йоганн Вальгрен
Женщина-птица
Зеркало в позолоченной раме. Амальгама по краям почернела, позолота потрескалась, а кое-где и вовсе облупилась, сошла — и из-под нее просвечивает дерево, изжелта-белое, словно кость под лоскутами обожженной кожи. Это очень старое зеркало, чуть ли не античное — мама купила его еще в шестидесятые годы на толкучке; оно уже тогда было старым. Но я получила его в подарок лишь тогда, когда мне разрешили пользоваться косметикой. Зеркало, зеркало… я так ясно вижу в нем свое лицо; светлые волосы, унаследованные от мамы, тонкий нос с выпирающими хрящиками, шрам на лбу в виде полумесяца — память о моем одиннадцатом дне рождения. Я тогда получила в подарок велосипед и тут же грохнулась на проселке у дачи.
Зеркало. Я откидываюсь на кресле и кладу ноги на табуретку. Свет играет в прядях волос, вспыхивает и гаснет, дымно-голубой и волнистый, как вода… Когда я была поменьше, случалось, что я глядела в это зеркало и не могла найти свое лицо. Я пыталась его найти — как, впрочем, и сейчас — и не могла. Почему так бывает — человек не видит своего лица? Это было странно, как во сне: лицо мое словно бы покрыто волшебной вуалью… Теперь все по-иному. Теперь я тоже не могу найти свое лицо, но тогда я его просто не видела, а теперь вижу, даже слишком хорошо, но лицо это не мое: малейший дефект, если присмотреться, оборачивается карикатурой. Хотя здесь, по эту сторону стекла, я все та же — непонятная и нелепая личность, на карте характера сплошные белые пятна… не о чем говорить.
Зеркало. Я накладываю маскару на ресницы и зажмуриваюсь. Глаза. Что у меня за глаза? Зеленые брызги на коричневом фоне. Цвет моих глаз называется меланж. Так стоит в паспорте, что я получила осенью, — цвет глаз: меланж. Скоро я буду совершеннолетней, и летом уже никто не сможет мне помешать воспользоваться моим паспортом, даже мама. Тем самым паспортом, где цвет моих глаз называют меланж. И я уеду — мы с Анитой уедем, разрешит мама или нет.
Странно. Я очень много думаю о ней в последнее время. Задаю себе вопросы. Моя мать — кто она? Она рядом и в то же время очень далеко. Чужая женщина… или я просто слишком хорошо ее знаю? Вечная дорога, то приближающаяся, то исчезающая за горизонтом? Мне кажется, мама — это отражение меня самой… или неясная тень бабушки. Когда-то она была молодой. Женщиной в моем возрасте. Могу ли я себе это представить? Мысль эта не умещается у меня в голове, она улетает в другие десятилетия, в другой Фалькенберг, настолько непохожий на мой, что я, как ни стараюсь, не могу его представить… Другой мир; а какой была мама в том мире? Мне кажется, такой же. Такой же нервной, полной предрассудков, беспокойной и жесткой… только намного моложе и красивее.
Я прекрасно помню, какой она казалась мне, когда я была крошечной, когда едва доставала ей до талии. Тогда все казалось огромным, даже те вещи, которые теперь кажутся маленькими: квартира, детская комната, фигуры взрослых. В том мире мама была везде, она была магнитом, центром гравитации. Она пахла «Нивеей» и решала кроссворды в «Халландс нюхетер» настолько быстро, что не успеешь мигнуть, как все уже отгадано. «Медленный темп в музыке… пять букв… средство передвижения… пять букв…» Она теребила пальцем губы и писала левой рукой: буквы составляли слова, слова переплетались в быстро заполняющийся орнамент, систему, в которой она была полноправной властительницей. Уже тогда я спрашивала себя: как мама стала такой, какая она есть? Женщиной, решающей кроссворды и размазывающей белые сливки «Нивеи» по шее и плечам? Печальная и непредсказуемая… любовь кипит в ней, как вода в чайнике. По ночам я слышу, как она плачет или стонет во сне. Почему она так часто грустит? Потому ли, что наш букинистический магазин дышит на ладан, что денег вечно не хватает, что дедушка перестал разговаривать, а бабушка вечно упрекает ее, что она не умеет вести дом? Но мама же сама была продолжением и отражением бабушки, ее лицо с возрастом становилось все более похожим на бабушкино, и голос… «Уметь вести дом — долг каждой женщины… Следи, чтоб домашний очаг не зачах…»
Как я ее помню — правильно или неправильно? Она взрывалась по каждому поводу и раздавала нам пощечины. Я помню это чувство — как будто к щеке прижали горячий камень. А в другие дни она была совсем иной — маленькая девочка-мама, такая красивая в своем белом платье и с ярко накрашенным ртом. Тогда она пела для нас: «Бьют часы на башне: дили-дон-н-н»… Или рассказывала, каким был дедушка, пока не перестал разговаривать, о своем детстве в деревне во время войны.
Я помню эти рассказы. Ее голос был как мелодия, ритмичный, с узнаваемыми музыкальными интервалами. То, о чем она рассказывала, казалось далеким и нереальным. Сейчас я иногда думаю, что она все выдумывала, и не могу понять, зачем.
Мне кажется, это Анита научила меня задавать себе эти вопросы, заставила попытаться понять, что же, в конце концов, за человек — моя мама.
Она появилась в нашем втором классе гимназии осенью. Анита из Гетеборга. Новенькая. Сильная, свободная Анита, сразу вбившая клин между мной и моими старыми друзьями. Все изменилось. Я вдруг поняла, что мама — плохая мать и никуда не годная воспитательница: она била меня в детстве, эти горевшие на щеках оплеухи страшны не болью, а унижением и стыдом. Я поняла, что мама полна предрассудков: «Вялые руки — признак скверного характера… длинноволосые мужчины ненадежны…» Моя мама — жалкое существо, этому нет оправданий. Она все бросила, когда встретила отца; уволилась с работы, чтобы стряпать, убираться и служить ему подстилкой, она даже не помышляла состояться как женщина, освободиться, вырваться из этого рабства… Анита помогла мне — теперь я вижу ясно, что представляет из себя моя мама.
Свободная Анита. Иногда мне кажется, что это она меня всему научила. Сильная, свободная Анита. Анита, которая два последних лета самостоятельно ездила в Европу и путешествовала из страны в страну на поездах без билета. Анита, которая сбежала из дома, когда ей было четырнадцать и добралась аж до Амстердама, пока мать ее не разыскала. Анита в кожаной куртке с нарисованной буквой «А» на спине. Анита… ясное дело, она уедет из этой чертовой дыры, как только прозвонит последний звонок в гимназии. Свободная, красивая Анита, она участвует в демонстрациях против атомных станций. Анита, настоящая женщина, она с такой гордостью говорит о себе, как гордится она своим полом, о своих месячных, о сексуальных фантазиях, о своей мастурбации. Я всегда хотела быть такой же — свободной и смелой, ничего не бояться… но где мне. Я по-прежнему застенчива и запугана. Я по-прежнему хочу доказать что-то, только не знаю, что.
С тех пор, как я встретила Аниту, я уже не знаю, не могу вспомнить — любила ли я когда-нибудь свою маму, восхищалась ли ею когда-нибудь? И все же — именно ей я хочу что-то доказать, своими пятерками в аттестате, своим членством в ученическом совете, своим примерным поведением. Потому что мне все равно, когда меня ругают — только мамино недовольство что-то значит для меня, только мамины разочарование или злость способны меня по-настоящему огорчить. Мама… теперь я ее презираю. Это она сделала меня такой, какая я есть: глупой, забитой и робкой. Это из-за нее я хочу отсюда уехать, подальше от всего этого чертова дерьма.
О чем я думаю? Вот о чем: все на все похоже, все повторяется с идиотской точностью, как на циферблате часов. И что это за мысль? Куда она меня приведет?
Я закрываю глаза и пытаюсь представить себе Юнаса. Теперь он для меня ничего не значит, но как пример сгодится. Мы встретились прошлой весной на вечеринке. Он был на два года старше меня и уже заканчивал гимназию, а я еще была на первом курсе. С ним я чувствовала себя взрослее — девушка, для которой естественно завязать роман. Я помню эту вечеринку, как будто бы это было вчера, помню музыку, помню каждую ноту в «2-4-6-8 Motorway», помню каждую фразу. Юнас угостил меня пивом и сигаретой и сказал, что я похожа на какую-то артистку из «Учиться жизни». Помню, я тогда засомневалась: комплимент ли это, или он просто нервничает? Потом мы пошли на берег. Море в тот вечер было странным и загадочным — неизвестно откуда взявшиеся тени скользили над темной поверхностью воды, словно огромные плоские животные, а песок казался совершенно белым. Вдруг он начал плакать, без всякого повода. Я стояла и смотрела на него, не зная, что сказать. Что-то было очень красивое в этой сцене, что-то лишенное бытового смысла, никак не соприкасающееся с жизнью, словно бы все разыгрывалось за невидимой стеной, без нашего участия. Он сидел передо мной и плакал, тихо и мелодично, это было похоже на длинную песню без слов. Мне почему-то, до сих пор не понимаю, почему, было очень хорошо и спокойно на душе… Потом до меня дошло, что я впервые в жизни видела, как парень плачет, я даже не видела, как плачет мой брат, когда мы были маленькими. Но почему? Почему он плакал в тот вечер? Я не спросила, и он не стал объяснять… Мы продолжали встречаться еще месяца три. В июне он закончил гимназию и прямо после выпускного бала уехал в Эстерсунд — его призвали в армию. Последний месяц мы виделись только через неделю по выходным, когда он прилетал в Фалькенберг на побывку. Неважно; он мог бы и не приезжать, оставаться там, в Емтланде — наши отношения уже были обречены.