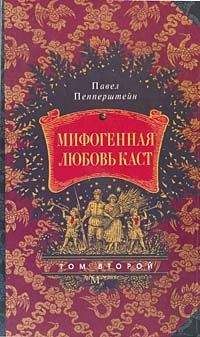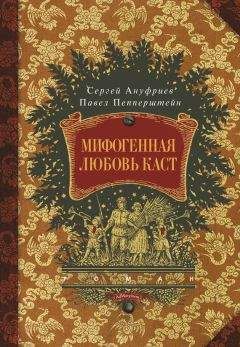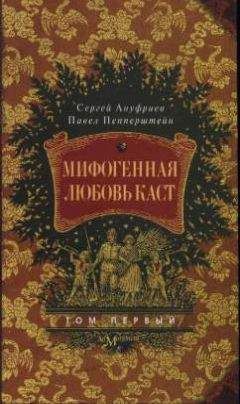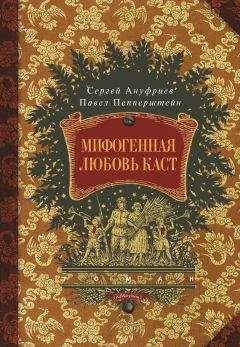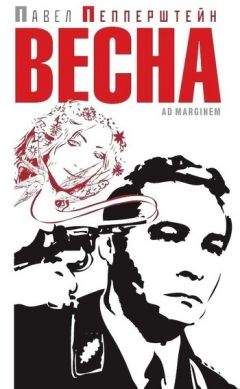Он дошел до мотоцикла и остановился. Дверь в отделение была открыта, в глубине кто-то разговаривал. Недалеко от входа в милицию сидели на корточках два парня возле маленького, полупрозрачного костра. Они курили, прищурено рассматривая Вострякова.
Востряков, глядя на эту открытую дверь, за которой темнело зеленоватое помещение, вдруг понял, что он никогда не сможет войти туда, держа в руках эту картонную коробку. Лучше он наложит на себя руки, лучше он просто перестанет дышать или у него остановится сердце — прямо здесь, посреди этого двора, и он упадет в пыль мертвым, на удивление этим парням у костра.
Он повернулся и посмотрел на церковь. Он привык видеть эту церковь закрытой. Здесь всегда располагался какой-то склад. Но тут он увидел, что церковная дверь приоткрыта, и внутри различил свечные огоньки. Стало ясно, что церковь снова является действующей. Востряков поднял глаза вверх, на купол: там блестел в утреннем солнце крест. Прежде его тут не было.
Востряков вошел внутрь. Приятная прохлада старого каменного здания, запахи дерева и ладана, тьма. Сначала Востряков не мог ничего разглядеть, кроме редких свечных огоньков (он забыл снять солнечные очки), потом стал с трудом различать все вокруг себя. Было пусто, и чувствовалось, что церковь открылась недавно — на облупленных каменных стенах кое-где висели иконы, иконостас стоял новый, из свежего дерева, а икон в нем вообще еще не было — вместо них зияли проемы, похожие на окна. Сбоку стояла бетономешалка, лежали кирпичи.
Востряков поднял голову, посмотрел на купол. Там с трудом проступали очертания Спаса, на груди у которого висело словно бы подвешенное на невидимых нитях, круглое окошко, застекленное ярко-синим стеклом.
Востряков никогда не был религиозным. В юности увлекался комсомольской деятельностью, организовал заводской Дом культуры. Религию тогда считал пережитком прошлого, обреченным на скорое исчезновение. Многочисленные церковные здания, как он полагал в те времена, надо бы уничтожить как уродливые анахронизмы. Те же здания, что отличались красотой, следовало преобразовать в театры, кинотеатры, музеи, цирки, библиотеки.
Но теперь он видел, что прошло много лет, прошла почти вся его жизнь, а религия не только не исчезла, она, наоборот, вроде бы даже окрепла, она как-то невозмутимо вплелась в современную жизнь: в церквах звонили телефоны, стояли бетономешалки. Церкви восстанавливались повсеместно… Даже по телевизору стали показывать священников, благословляющих народ.
К тому же если существуют на свете колдуны и злые волшебники, если есть тайные службы и гиперкомпьютеры «Тошнота», значит, должен быть Бог, кладущий предел этим безобразиям. Если есть бессонница, значит, есть и Бог Сна, способный преодолеть ее злую власть одним мановением ресницы,
Востряков неподвижно стоял посреди церкви в своем черном костюме, со злополучной коробкой в руках, так и не сняв солнцезащитные очки, из-за которых ему казалось, что здесь гораздо темнее, чем было на самом деле. Ему вдруг стало спокойно.
«Господи, — произнес он мысленно. — Я научный работник, я не знаю, есть ли Ты, в том смысле, в каком люди понимают слово „есть“ и слово „Ты“. Но если Ты есть и в этих человеческих смыслах, то дай мне знак в виде исполнения просьбы. Она же хотела проверить и проверила — колдун знал про Настеньку, про изменение имени. Я тоже хочу проверить, но в другом смысле. Мне ни к чему проверять, какие могут быть проверки? Я просто хочу попросить: если можно, пусть эти письма не приходят. Хотя бы какое-то время. Пусть я отдохну. Хотя бы три месяца. Начинается лето, пусть это будет летний отдых, каникулы. Мне так они нужны. А осенью… Там уж как получится».
Востряков неловко перекрестился и вышел из церкви.
Во дворике ничего не изменилось. Парни все так же сидели возле костерка.
Востряков подошел и бросил в костер коробку с письмами. Пока она горела, он глядел в огонь. Парни, прищурившись и осторожно оскалясь, смотрели на него. Он почувствовал, что им надо дать денег. Он достал из бумажника две ассигнации, протянул парням.
Они взяли.
— Помолитесь за меня, — сухо произнес Востряков.
Один кивнул, более серьезный на вид. Другой, обритый наголо, только весело сплюнул.
— Отмороженный, — расслышал Востряков, уже отходя от них.
— Не, ты чего… — возразил другой. — Человек сдаваться приходил. Но в последний момент передумал. В церковь пошел. Лучше перед Богом каяться, чем перед мусорами. Дешевше обойдется.
Парни тихо засмеялись. Им не видно было, что и Востряков смеется.
— Дешевше… — повторил он, уже совсем счастливый.
Вместо того чтобы повернуть обратно, к научному поселку, Востряков отправился дальше, в поле. Он долго гулял. Постеленно становилось жарче, ему пришлось снять пиджак и галстук, расстегнуть ворот рубашки. Он дошел до реки, где никого не было, кроме двух дальних рыбаков в лодочках, неподвижно сидящих в светлом утреннем полутумане. Там, у реки, Востряков впервые за несколько дней с наслаждением посрал под кустиком, насвистывая какую-то песенку. После этого ему стало совсем легко, и он все гулял и гулял, не думая ни о чем, почти до самого вечера. И только в сумерках вернулся домой, посвежевший и отдохнувший, как будто провел несколько недель на курорте.
Так и случилось, что в утро этого дня Тарковский впервые за долгое время не встретил Вострякова на просеке. Тарковский провел эту ночь на дежурстве в объятиях молодой лаборантки. Ночь выдалась бессонной, любовной, и теперь, насыщенный любовью, но не насыщенный сном, Тарковский шел сквози лес, чувствуя себя воздушным шаром в потоке ветра. На самом деле ветра не было, лес стоял неподвижный, в криках птиц и в острых утренних тенях, но Тарковскому все равно казалось, что он ничего не весит, и внутренний ветер нес его не беспорядочно и хаотично, а ровно и прямо, по самому центру лесной дороги. Вначале он ни о чем не думал, только вспоминал ощущения поцелуев и гладких девичьих плеч, потом в голове всплыла итальянская песенка и обрывки слов «ди веро», «мадонна», «ля нотте», «асфальто лючидо», «видерчи», «вита соле», «анкора, дио…», «феличе»…
Где и когда слышал он эту песенку, выпеваемую очень высоким, почти звенящим женским голоском, таким голоском, о котором так и хочется сказать «ангельский»?
И только, когда впереди, в конце просеки, не замаячил в нужное мгновение пунктуальный силуэт Вострякова, Тарковский вернулся к мыслям, не похожим на песни и поцелуи.
«Заболел, что ли?» — подумал он.
В руке он держал портфель, в котором лежало несколько книг: в основном восточная литература и еще любопытный дневник одного переводчика с корейского, где описывалось путешествие в современную Корею — сначала в Северную, потом в Южную.
Когда слово «заболел» мелькнуло в мысленном потоке Тарковского, он вдруг почувствовал себя слабым и словно бы тоже заболевающим, но это всего лишь давала о себе знать бессонная ночь, и сон, оттесненный любовью за пределы ночи, теперь, при солнечном свете, требовал свою долю почитания. Тарковский вдруг отяжелел, из воздушного шара превратился скорее в белый творог, которому хотелось бы лежать где-нибудь в прохладе, запеленавшись в сырую, чистую и холодную бумагу. Домой ему идти не хотелось (как и Вострякову в этот день, один из последних дней весны — стояло двадцать девятое мая), поэтому Тарковский свернул в лес, охотно углубился в его тенистую глубину, и там присмотрел себе уже довольно прогретую солнцем полянку, где и прилег, подложив себе под голову портфель.
Когда он проснулся, то не мог понять, сколько длился его сон.
Он пробудился в несколько одурманенном состоянии, как бывает, когда случайно вдруг засыпаешь днем и на лицо падает, сквозь листья, солнечный свет.
Он пошел сквозь лес. Прогуливаясь, забрел в знакомый овражек, очень зеленый и уютный, куда забегали две-три тропинки, и там увидел сквозь кусты двух девочек или девушек с длинными волосами, одетых в светлое, которые готовили нечто вроде маленького пикника. Сверкнула крышка термоса сквозь кусты.
— Не угостите ли чем-нибудь голодного путника? — спросил Тарковский, подходя к девушкам.
— Садитесь, — сказала одна и указала ему на край пледа, на котором они обе сидели (точнее, одна сидела, другая полулежала).
К нему подвинули белый творог в развернутой бумаге, половину белой булки с маслом, налили ему холодного чаю в крышку от китайского термоса.
— Холодный чай и булка с маслом ее встречают на столе… — произнес Тарковский, присаживаясь на корточки.
— Это откуда? Из стихов? — спросила та, что лежала.
— Да. Из каких-то стихов. Что-то начала века. Не помню, чьи. — Тарковский зачерпнул краем булки немного белого творога, откусил, запил чаем. Все это показалось очень вкусным.
После пяти минут необязательного разговора они назвали друг другу свои имена.