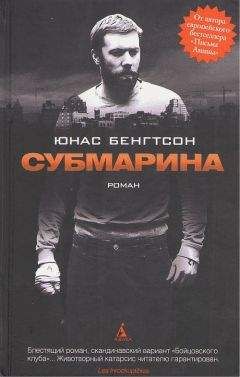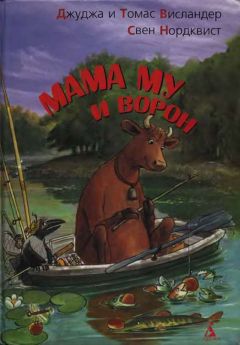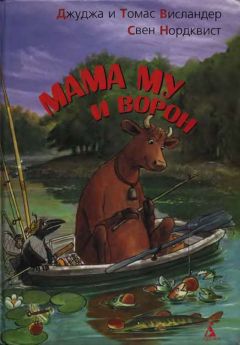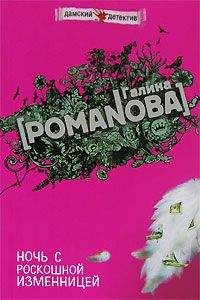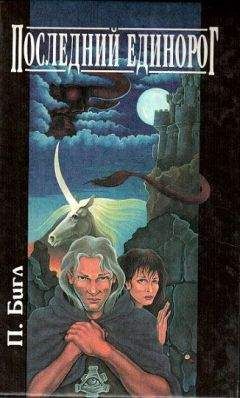Когда мы возвращаемся в общагу, София спрашивает, не выпью ли я с ними какао. Я говорю, что у меня дела. Захожу в свою комнату, раздеваюсь и иду в ванную. Включаю очень горячую воду. Струя колко хлещет по телу, по лицу. У меня странное настроение, не знаю отчего.
Вода все горячее. Снимаю бинт, не глядя, подношу руку к лейке, сжимаю зубы. Скоро от пара стало трудно дышать. Кажется, издалека слышны крики, но из-за шума воды я не уверен.
Беру пиво, сажусь на подоконник. На тротуар перед общагой заезжает полицейская машина. Вскоре из нашего подъезда выходят полицейские, мужчина и женщина. Они держат сына Софии. Он сопротивляется. Мужчина открывает заднюю дверцу машины. За ними выбегает София. Она кричит, она орет. Зияние огромного рта. Женщина-полицейский заталкивает мальчика в машину, а мужчина стоит перед Софией, раскинув руки в стороны, как вратарь. Она пытается обойти его, но он ее отталкивает. Она вновь пытается прорваться к машине. Мальчик смотрит на нее, его губы за стеклом движутся, теперь он тоже плачет. Мужчина быстро обегает машину и садится на переднее сиденье. Машина отъезжает. София бежит за ней, пока не падает на землю. Через какое-то время она встает и идет в общагу.
Я приканчиваю пиво, выпиваю еще одну бутылку. Затем прохожу несколько шагов, отделяющих меня от комнаты Софии. Дверь открыта. Она лежит на кровати, зарывшись головой в одеяло, подол легкого платья задрался, виден край черных трусов. Она дрожит, как будто через ее тело пропускают ток. Сажусь рядом на кровать. Не знаю, что мною движет, но я одергиваю подол ее платья, прикрываю ее. Она рыдает. Когда я дотрагиваюсь до нее, рыдания усиливаются. Неудержимые, истерические. Спустя какое-то время она затихает, только мелко дрожит под моей рукой. Так продолжается долго.
24
— На улице у денег совсем другая ценность, — рассказывает Иван, мы с ним едем в автобусе. — Десять крон — это не десять крон, это хот-дог, это бутылка крепкого пива. Десять крон — это ужин и немного тепла. Бутылки — это твердая валюта. Большие пол-литровые наиболее популярны, за них можно получить больше, но их трудно найти, и они тяжелые. Самые привлекательные, без сомнения, пластиковые пол-литровые. Места не занимают, весят немного, не бьются.
Автобус едет по городу, с Северо-Востока через центр, туристический центр: Стрёгет, Тиволи. И на Амагер, по Амагерброгаде, мимо ребят в подворотнях, у интернет-кафе, у пиццерий и кебабных, косячок в кулачке.
— Матерчатые авоськи тоже пользуются спросом, — говорит Иван. — Понаблюдай за людьми, давно живущими на улице, выживающими на улице, — они не пользуются пакетами. Только ткань может столько выдержать. Хорошая авоська прослужит годы. Хорошая авоська выдержит до тридцати пустых пивных бутылок. Или двадцати пустых пол-литровых бутылок из-под кока-колы. Хорошая авоська или ее отсутствие решает, будет ли у тебя что выпить или же еще и поесть. Хорошая авоська может пережить своего хозяина. Может передаваться по наследству. Первый хозяин уже истлел в безымянной могиле, а сумочка жива, а в сумочке носят бутылочки.
Автобус доехал до конечной, мы выходим. На город уже не похоже, низенькие дома, какие-то мелкие производства, автосервис. Иван знает, куда идти. Мы заходим в гриль-бар, деревянный домик красного цвета. Нет даже пиццы, самое «иностранное» блюдо — картофель фри. На потрепанной ветром и непогодой вывеске представлены колбаски всех размеров. Интерьер украшен моделями самолетов разных цветов, краска облупилась. Внутри пахнет сыростью. У обслуживающей нас девицы-тинейджера обесцвеченные волосы, готов поспорить на почку Ивана, что в конце смены за ней приедет парень на скутере. А на другую почку я готов спорить, что скутер форсированный. Покупаем хот-доги — что еще? Всё. Иван берет какао. Я пью крепкое пиво и еще две бутылки беру навынос. Садимся на пригорке недалеко от посадочной полосы, Иван знает это место. Если лечь, можно услышать рев моторов еще до того, как над тобой пролетит самолет. А если что-нибудь отвалится, говорит Иван, если что-нибудь от самолета отвалится. В этих самолетах много металла. Да? Если что-нибудь отвалится и на кого-нибудь грохнется, то человек ведь сразу умрет, правда? Конечно, да, говорю и осушаю вторую бутылку.
Иван говорит: я не знаю, что случилось… Когда я приехал в Данию, когда я сюда приехал. Было хорошо.
Все было хорошо. Я скучал по отцу, но тогда мы еще верили, что он приедет, долго верили. Я радовался, что попал сюда. Быстро выучил язык. Говорил лучше, чем сейчас. Я чувствовал себя практически… Наверное, чувствовал себя практически датчанином. Потому что знал, откуда приехал, и мне это не нравилось, мне не нравилось вспоминать то, что я видел. Здесь было хорошо, тепло, мультфильмы по утрам, Том и Джерри, кукурузные хлопья.
Она тебе, наверное, рассказывала об этом, Ана. Я ведь правда был… Я был молодцом, большим молодцом. Мне теперь трудно это представить, я не могу думать… Всё очень… Когда я ночью встаю пописать, я не знаю, кто писает, я не знаю, и, когда я ложусь обратно, возникают картины войны, они приходят… Наш сосед.
Рассказывая о соседе, он вырывает клочки травы с лужайки. Сосед, ему выстрелили в живот, и он не смог добраться до своего этажа. Лежал на их придверном коврике, и кричал, и кричал. Они были дома одни. Это уже после того, как закрылись школы. Они услышали его. Эти крики, они становились все ближе и закончились у их двери. Они втащили его в прихожую. Заткнули рану носками и футболками, в одном из отцовских фильмов они видели, что так делают. А он все кричал. Ужасный звук. И в конце концов у них осталось лишь одно желание: чтобы этот звук прекратился. Они закрылись в туалете. Били по трубам сковородками и кастрюлями, пели как можно громче. Но звук все продолжался, эти вопли. И они заткнули ему рот носками, а звуки все продолжались, но уже более приглушенные. Они сели на пол в гостиной, закрыли дверь в прихожую. Играли в карты. Громко обсуждали игру, а через какое-то время звуки стихли.
Иван смотрит в бутылку, затем поднимает глаза, он вернулся. Перед ним высится холмик из травы.
Я встаю и отхожу на пару метров.
Возможно, всего лишь возможно, там, в пролетающем над нами самолете, кто-то смотрит в маленькие круглые окошки. И видит крошечного человечка, стоящего на возвышенности, в траве, упершись в бок рукой, а от него в сторону заходящего солнца бьет совершенно прозрачная струя мочи.
25
Я покупаю бутылку белого вина для Софии. Не виделся с ней, с тех пор как забрали мальчика Уже несколько дней. Почти неделю. Стучу, пока она не открывает. Тушь размазана по щекам, похоже, с тех пор и не мылась. Открываю окно. Запихиваю ее в ванную. Все это молча. Сначала включаю холодную воду, она судорожно глотает воздух, по щекам течет тушь. Затем горячую. Прямо под душем она снимает платье. Иду в комнату, нахожу штопор, откупориваю принесенную бутылку, достаю бокал. Из ванной она выходит уже с осмысленным взглядом. Смотрит на меня, берет протянутый бокал. Пьет, держа обеими руками. Садится на постель, пьет. Наливаю еще. Берет у меня зажженную сигарету. Еще пьет. Говорит: все будет хорошо. Сперва едва слышно. Потом повторяет еще раз, увереннее. Все будет хорошо. Словно подтверждая свои слова.
— Я верну его, Ник. Обязательно верну.
Снова наполняю бокал.
— Я обязательно верну его.
По мере того как бутылка пустеет, к Софии возвращается жизнь.
26
Иван говорит: я помню кое-что, я это однажды видел по телевизору. Олимпийские игры. Толкатель ядра. Я был еще не очень большой.
Так он говорит, без всякого повода, без предисловий. Он забывает: чтобы заговорить, нужно оправдание; нужно сделать вид, что ты говоришь о чем-то другом. Нельзя начинать напрямую, надо покружить вокруг да около и только затем вырулить на свои проблемы. А вот так, ни с того ни с сего… Только сумасшедшим свойственна такая прямота.
Он говорит: на этих Олимпийских играх был один спортсмен, который пару раз обернулся вокруг своей оси такими характерными шажками и метнул ядро, и при этом кричал или даже вопил, это был вопль — вопль, шедший от низа живота и выходивший через горло, и, пока ядро летело, видно было, что рот открыт, распахнут, как будто вопль продолжался, но звука не было.
Мы идем по улице. Иван и я. Город измотан жарой. В конце месяца у всех кончаются деньги, люди не верят, что снова наступят холода. Смотрят телик с открытыми окнами и, засыпая, потеют. Проходя мимо окон первого этажа, мы слышим обрывки новостей, звуки телешоу, автомобильных погонь и перестрелок.
Иван говорит: сначала подбежал судья, потом врач. У атлета заклинило челюсть. По-видимому. К этому выводу Иван пришел позднее. А тогда он видел мужчину в окружении других мужчин, мужчина кричал, но звука не было. Иван вспомнил атлета, когда впервые увидел «Крик» Эдварда Мунка. Он видел картину в книжке, в гимназии. Подумал о заклинившей челюсти.