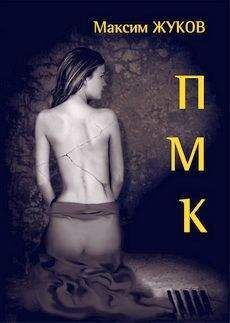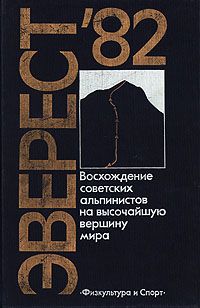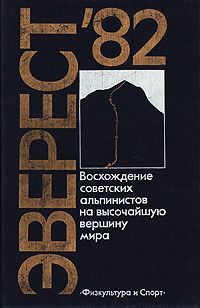Дежурный врач, осмотрев Джурджу, в отличие от дежурного врача санпропускника, разочаровал ее еще больше, сказав, что одной неделей постельного режима она, к сожалению, не отделается; потом посмотрел в карточку и, видимо, прочитав фамилия — криво ухмыльнулся.
Миша поднял Джуржду вверх на лифте и, оставив ее в перевязочной второго этажа, вышел в затемненный холл, расположенный напротив пожарной лестницы, куда, по общему обыкновению, бегали курить все посетители и пациенты из близлежащих палат и отделений. Здесь среди пыльных карликовых пальм и ободранных фикусов стояло удобное кожаное кресло, как правило, никем не занятое в столь поздний — по больничным меркам — час. Миша присел и тут же, почти без всяких пауз, погрузился в глубокий похмельный сон: как будто кто-то резко надвинул ему на глаза мягкую фетровую шляпу с широкими черными полями.
…Этот образ, этот незамысловатый сюжет часто, слегка видоизменяясь, переходил из одного Мишиного сна в другой: свет, краски, ощущения времени и пространства оставались всегда одними и теми же; но главный (и единственный) персонаж от сновидения к сновидению менял то пол, то ракурс, то появлялся в новом — обычно средневековом — одеянии, а то и вовсе представал в образе бесполого обнаженного гермафродита — всегда, впрочем, с миловидными чертами лица и светлыми, по-ангельски завивающимися волосами. Этот ангел (Миша определял его для себя именно так — ангелы — они ведь, насколько он помнил, существа бесполые) с редким постоянством и усердием выполнял одно и то же, совершенно необходимое для людей и абсолютно неприемлемое для ангелов, сакральное — если можно так выразиться — действие: он садился на карточки и, тягостно морща миловидные черты своего утонченного лица, отвратительно тужась и кряхтя, опорожнял своей кишечник прямо на расстилающуюся под его ногами и различимую даже во сне до отдельно взятого листка или тончайшей былинки густую изумрудную мураву.
Он, попросту говоря, вульгарно срал на природе.
Но срал он тоже не по-людски… Вместо отвратительных и зловонных человеческих фекалий из его анального отверстия сыпались разноцветные золотые и розовые — самых что ни на есть отборных сортов — садовые цветы.
Господи! — всегда думал во сне Миша — что же он такое скушал?! Что же он такое, мудило грешное, сожрал? Ведь не может быть так: съел кусок колбасы или, скажем, шмат сала, а на выходе — розы да рододендроны…
Впрочем, разве ангелы едят сало?
— Пойдем, пойдем. Нет здесь никого. Спят уже все.
Они прошли мимо, на пожарную лестницу, видимо, покурить.
Сон был прерван; но вставать из теплого насиженного кресла Мише не очень-то хотелось. Он аккуратно потянулся и решил попробовать заснуть еще раз, благо Друджу, по всей видимости, пока еще не обработали, если бы обработали — давно бы позвали его: все равно надо будет везти ее в другой корпус — в ожоговом лежали в основном только сильно обгоревшие пациенты.
— У тебя зажигалка есть?
— Да есть, есть. Тише ты. Видишь, санитар закемарил. Пусть отдохнет малёк, бедолага.
Судя по голосам и по бензиновой гари, пахнувшей на Мишу, когда они прошли рядом, мужчина был водителем, а женщина местной пациенткой; врачи и медсестры на пожарную лестницу курить не ходили, у них для этих целей имелось свое помещение.
(Вообще-то ночные посещения в больнице были категорически запрещены, но достаточно было сунуть дежурной сестре червонец, и — хуйдевкинелю!)
— Ты чего по ночам стал ездить?
— Да днем работы много, клиент косяком пошел — только бомби.
По голосу было слышно, что мужчина врет. Мише стало интересно, но глаза открывать он все-таки поленился.
— Гад ты, Саня, гад! Столько лет вместе прожили, Машка в школу в этом году пойти должна, а ты?! Сволочь.
— Лен, я же не ухожу от тебя. Не собираюсь. Не думаю даже… закрутился просто. Времена-то нынче тяжелые. Да и лекарства у тебя дорогие… работать надо. Давай я тебе лучше новый анекдот про Ельцина расскажу.
— Иди ты. Мне смеяться больно.
Миша приподнял голову и открыл глаза. В тусклом свете дежурного освещения он увидел широкоплечего, одетого в черную кожаную куртку, мужчину, переминающегося у прикрытой двери, отделяющей больничный лифт от пожарной лестницы. Рядом с ним у самого окна, на лестничной площадке, просматривался силуэт молодой светловолосой женщины, запахнутой в домашний махровый халат. Мужчина стоял к ней вполоборота, как бы полуотвернувшись, потупив взгляд, как это делают маленькие провинившиеся дети.
Она что-то еле слышно сказала.
Он ответил.
Она отошла от окна и, по всей видимости, сдерживая внезапно нахлынувшие слезы, уткнулась плечом в дверной косяк. Он обнял ее, видимо, стараясь успокоить, но как-то неловко, сбоку;
и тут
ее лицо попало в яркую полосу дежурного освещения…
Начинаясь сразу же под ее коротко остриженной светлой челкой,
пересекая наискосок левую бровь и
обогнув охваченную уродливыми рубцами глазную впадину,
от верхнего края виска и до самого подбородка -
пролег,
замазанный каким-то зеленоватым кремом,
не совсем заживший еще,
широкий ожоговый шрам.
Миша уже где-то видел такое. Нет, не в Медицинской энциклопедии, это он помнил точно — в это многотомное издание он заглядывал лишь однажды, чтобы уточнить симптомы одной весьма распространенной венерической болезни — он видел что-то подобное, скорей всего, еще в школе в иллюстрированном пособии по гражданской обороне на уроках начальной военной подготовки, в старших классах. В этой книге, за картинками, поясняющими порядок оказания первой помощи при огнестрельных ранениях, сразу же после ужасающих фотографий людей, зараженных бубонной чумой и сибирской язвой, была глава, посвященная «повреждениям кожных покровов при попадании в зону водородного (термоядерного) взрыва».
Немного успокоившись в его неловких объятиях, и видимо почувствовав, что на них кто-то смотрит (кто-то чужой, посторонний), она снова отошла к окну и повернулась к нему здоровой, не тронутой огнем половиной своего молодого и некогда — даже сейчас об этом можно было сказать с полной уверенностью — красивого лица.
Третья степень. Никак не меньше, подумал Миша, — особенно на щеке; шрамы на всю жизнь останутся. Кошмар. Ведь для любой бабы лицо — важнее иконы в красном углу (если она вообще в доме имеется, после 70-и лет научного атеизма). Они же макияж по два часа каждый день делают, кисточки какие-то покупают, чтобы ресницы длиннее казались, брови выщипывают, за морщинами следят, а тут… и мужика жалко, понятно, почему он по ночам приезжать стал…
— Эй, пехота, забирай свою болезную. Пятый корпус, с палатой на месте определишься.
Джурджа смотрела на него осоловелыми глазами. Начали сказываться ночное время, перенесенный стресс и обезболивающий укол, который ей наверняка сделал провозившийся с ней больше часа сердобольный старенький доктор. Миша подкатил ее к лифту и остановился в ожидании вызванной кабинки. Мужчина деликатно заслонил собой обожженную женщину и, понуро взглянув на кресло-каталку, аккуратно прикрыл за собой дверь.
Дочка в школу пойти должна — подумал Миша — да, парень, одному тебе придется на школьные собрания ходить. Да и вообще…
В пятом корпусе Джурджу быстро приняли и разместили. Миша, вернувшись в санпропускник, отыскал тетю Симу и выпросил у нее последние заныканные сто грамм.
— В ожоговом был?
— Да.
— Ладно. Тогда разговляйся.
В комнате отдыха постоянно что-то происходило: броуновское движение сонных медсестер, заспанных санитаров, каких-то пьяных уборщиц и заглянувших якобы по ошибке дежурных врачей. Заснуть было практически невозможно. Но Миша, потрясенный увиденным и слегка успокоенный последней дозой варварски разведенного к концу смены спирта, спал как убитый. Был, правда, момент, когда его кто-то хотел растолкать, но потом быстро поняв, что это невозможно, махнул рукой и, обдав его тяжелой волной застарелого перегара, перебившей даже Мишин выхлоп, вышел в наполненный загадочными ночными звуками больничный коридор.
Миловидный, ангелоподобный гермафродит, опорожняющий набитый цветами кишечник, этой ночью Мише, к его великой радости, больше не являлся.
Уже утром, сдав смену, наматывая перед уходом теплый шерстяной шарф, Миша спросил у проходящей мимо тети Симы:
— Меня ночью вроде разбудить пытались…что-то стряслось?
— Да как тебе сказать, уголовника вчерашнего опять привезли.
— Буянил?
— С таким ножевым, в область сердца, — не побуянишь. Кровопотеря большая.
— Фиму Аллигатора, подельника его, менты, видно, отпустили — доразобраться, небось, решил…
— Да нет. Врач со скорой сказал — сожительница порезала…