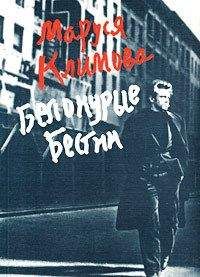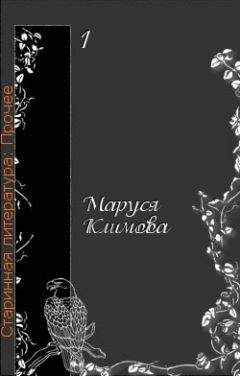А жена Николая за то, что он без ее ведома продал ее комнату, засадила его в тюрьму, где он провел шесть месяцев — сперва он был в одной камере, и там его называли «Англичанин», он сидел на верхних нарах, и ему даже поднимали наверх еду, а он обучал всех своих сокамерников английскому языку. Ну а потом его перевели в другую камеру, где сидели, в основном, лица кавказской национальности, и там уж ему пришлось быть в услужении и спать у параши, но он не особенно распространялся об этом периоде своей жизни. Там, в тюрьме они добывали огонь, чтобы курить, потому что ни спичек, ни зажигалок им не давали. Чтобы добыть огонь, они делали так: скатывали из фольги две тонкие макаронинки, вставляли их в розетку, и соединяли их между собой обрывком ватки, через некоторое время раздавался щелчок, из розетки показывалось пламя, а свет в камере гас — получалось короткое замыкание, но они успевали прикурить, и потом передавали друг другу этот огонь. Николай потом показывал этот способ Марусе у себя в комнате, а после того, как он сделал короткое замыкание, у него вылетели пробки, и он схватил стул, с обезьяньей ловкостью вскочил на него, потом на спинку стула, попросив Марусю при этом придержать стул, чтобы тот не опрокинулся, и снова вставил пробку где-то наверху, под самым потолком.
Улыбка была на лице у Николая почти всегда, правда, порой он впадал в депрессию. В один из таких дней он купил себе пластмассовые луну и звезды, повесил на стенку, и лежал и любовался на эти мигающие разноцветные светила.
Московский приятель Николая, Саня, тоже часто впадал в депрессию, но это состояние перемежалось у него с периодами нечеловеческой активности и подъема, когда он энергично бегал по Москве и даже мог приехать в Петербург. Год назад Маруся как-то зашла в кафе на Невском, где обычно собиралась наркоманская тусовка, и вдруг на нее сзади с шумом и криком кто-то набросился и стал ее обнимать и целовать. Она обернулась — это был Саня, в расстегнутой клетчатой рубашке, в резиновых тапках на босую ногу, называемых в народе «сланцами» — по имени городка в Ленинградской области, где их раньше производили, — Саня сообщил ей, что приехал из Москвы на верхней багажной полке и проиграл все деньги случайным попутчикам, а теперь у него нет денег даже на обратный билет, и он не может уехать обратно, так что придется ему жить у Николая или у его соседа Андрея. Николай, когда приезжал в Москву, тоже всегда останавливался у Сани, который раньше жил в Петербурге и пел в одной очень известной питерской группе, пока со всеми там не переругался.
Последний всплеск активности у Сани в Москве случился этой весной, тогда он выбросил из окна своей квартиры со второго этажа свои солнечные очки, купленные им накануне за двести долларов, и хотел, было, и сам выпрыгнуть вслед за этими очками, но его подруга Таня в последний момент его удержала. Когда Маруся была в Москве и тоже пару дней жила у Сани, Таня рассказывала ей об этом с нескрываемой гордостью, глядя на Саню с обожанием и восторгом. Саня обращался к Тане на «ты», а Таня к нему — исключительно на «вы» и даже иногда в его отсутствие говорила о нем в третьем лице, например, по телефону: «Сани нет. Они скоро будут», — а спала она на полу, на какой-то жалкой подстилке рядом с его кроватью.
Ее рассказом про очки Саня был доволен, но тут же заметил, что это все мелочи, с ним и не такое случалось, например, когда он служил в армии, он вцепился зубами в руку старшине и вырвал у него из руки здоровенный кусок мяса, после чего его вскоре комиссовали.
В Москве Саня пригласил Марусю на свое выступление в ночной клуб, где собралась целая толпа каких-то пугающего вида приблатненных личностей, которые шумели, толкались и громко переговаривались между собой. Когда Саня вышел на сцену, Маруся в первый момент его даже не узнала — в жизни он был достаточно тщедушного сложения и маленького роста, отчего все время ходил на высоких каблуках — на сцене же он весь преобразился, на нем были золотые сапожки и великолепный бархатный плащ, усыпанный сотнями брильянтов, которые сверкали и переливались в свете прожекторов. Как только Саня вышел на сцену и заиграла музыка, в зале сразу же воцарилась полная тишина, сначала Саня спел несколько песен из репертуара Клавдии Шульженко, потом — Марлен Дитрих, а в конце — песню про безработного афганца, который никому не нужен и уходит «в кокаиновую ночь, черную, как дуло автомата», — при этих словах, совпавших с заключительным аккордом, Саня театральным жестом скинул с себя осыпанный брильянтами плащ и упал на него, встав на колени. После этого какой-то жуткий, похожий на орангутанга, тип с невероятно длинными руками впал в настоящий транс, он стал дергаться всем телом и скандировать: «Саня! Саня!», — казалось, что он вот-вот плюхнется в обморок.
* * *
Слова в голове Маруси не всегда складывались в связные предложения, они просто порхали сами по себе и создавали разные образы, часто граничившие с бредом, однако это уже было интересно и занимательно, и эти образы настолько увлекали ее, что у нее терялось ощущение реальности, ощущение почвы под ногами, можно было вообще забыть о реальности и унестись в заоблачные выси. Слово «пектораль» застряло у нее в мозгу уже давно, она все хотела посмотреть в словаре, как же это слово пишется, оно снилось ей всю ночь, и даже сам этот пектораль виделся как какое-то прекрасное создание, творение природы или человеческих рук — неважно, все равно это было очень красиво. Кажется, в Древнем Египте фараоны носили на шее и груди пектораль, это было специально предназначенное для них украшение.
Про пектораль Марусе рассказал Павлик, когда он приехал из Берлина и зашел в собор, старушка у входа под большим секретом рассказала ему о чрезвычайном происшествии. Дело в том, что у них была на экскурсии группа иностранных туристов, и они ушли, весьма довольные, но через час прибежала взволнованная туристка, вся красная, в слезах, а с ней вместе — сопровождающий группу переводчик, и объяснил, что у нее украли документы и кошелек, а там были все ее деньги, тем более, что без документов она даже обратно домой улететь не могла, в Амстердам или там в Цюрих, старушка точно уже не помнила.
А в соборе в это время сновали какие-то цыганские дети, они достаточно часто там появлялись, и их гоняли смотрительницы, но окончательно выгнать их было просто невозможно, они появлялись вновь и вновь, и все время шмыгали, как мыши, около иностранных групп. Скорее всего, цыгане и обчистили эту туристку, так решили все и тут же поймали одного маленького черненького мальчика с грязными ручками, мальчик стал рыдать, бить себя в грудь кулачком и кричал, что он такого никогда не делал, но мальчика все равно привели в кабинет директора и не отпускали. А вечером того же дня в собор явился высокий мужик в сиреневом спортивном костюме фирмы «Адидас», у него были черные кудрявые волосы до плеч, блестевшие от какого-то геля для волос, он распространял вокруг себя аромат дорогого одеколона или даже духов, и на шее у него был золотой пектораль — так сказала одна сотрудница, которая в этом хорошо разбиралась, так как изучала историю искусства, кроме того, когда он открыл рот, то все увидели, что все зубы у него золотые, нет ни одного белого, за руку он держал маленького мальчика, очень хорошо одетого, причесанного на пробор. Все сотрудники музея прибежали поглазеть на настоящего цыганского барона, они столпились у выхода из алтаря и ловили каждое его движение, а он как будто и не замечал ничего вокруг. Он подошел к столу, за которым сидел распорядитель, отправлявший экскурсоводов на экскурсии, и с большим достоинством заявил, что он — цыганский барон, а вот это его сын, он в курсе того, что здесь произошло, это настоящий позор для всех цыган, пусть директор отпустит того ребенка, он ни в чем не виноват, настоящего похитителя найдут сегодня же к вечеру, а он пока оставит здесь в залог своего сына. Цыганский барон изящным жестом легонько стукнул себя в грудь кулаком, прямо по золотому пекторалю, и за руку провел своего сына в кабинет директора, там они оставались какое-то время, вышел он оттуда уже один и медленной походкой удалился к выходу. А вечером того же дня он появился снова, и в руке у него была небольшая сумочка, а в этой сумочке оказались все деньги той иностранки и ее документы, и директор тогда отпустил и первого цыганенка, и сына этого цыганского барона, и конфликт был улажен ко всеобщему удовольствию. Мало того, барон обещал, что отныне собор будет находиться под непосредственным покровительством цыган, и что больше здесь не будет никаких проблем подобного рода, что это, вообще-то, сделал какой-то пришлый человек, не настоящий цыган, а настоящие цыгане никогда бы себе такого не позволили, потому что для них честь превыше всего, и собор они очень любят и всегда уважали здешних сотрудников. Но директор после того случая нанял охранников, которые уже в собор цыган не пускали, а если туда и проникали цыганские дети, то их тут же отлавливали и выводили.