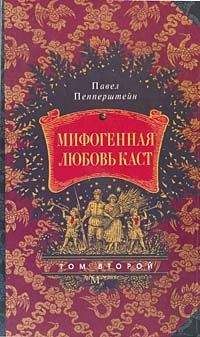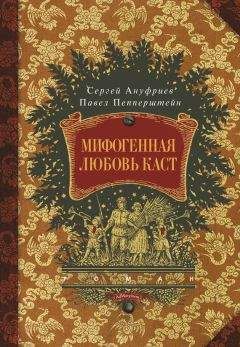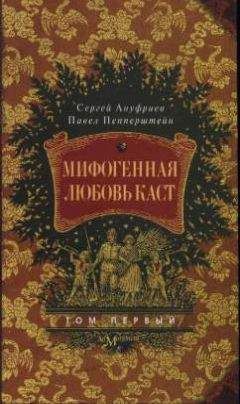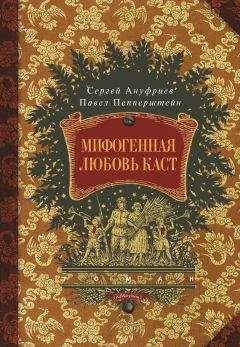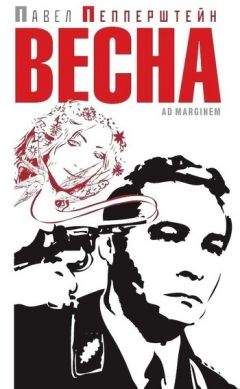Они приблизились к Поленнице, и Дунаев увидел, что возле нее на земле стоит Максимкин Поднос с большой пирамидальной горкой мальчишеских голов. На вершине этой горы возлежала голова мягкого существа, ощетинившаяся стальными иглами. Все головы по-прежнему пели, но теперь лидировала в этом хоре голова Мягкого. Песня эта была протяжна и печальна:
Я безмозглым родился, я не помнил себя,
На осиновый кол посадили меня.
Я как флаг развевался на птичьем ветру,
И капустные головы тихо шептали: «Умру».
Их с утра уносили и кидали в котел,
И раскачивал ветер мой осиновый кол.
И однажды Великая Буря пришла.
Рухнул кол. Я на землю упал. И земля приняла.
Обняла неказистое чадо свое,
Обняла, приняла. Обласкала, шутя.
И тогда я услышал, как ветер поет,
И я сам вдруг запел. И я пел, как дитя.
И земля мне сказала, и ветер сказал,
Очень тихо шепнул мне зеленый росток,
Что мне надо идти, что мне надо искать,
Что мне надо искать и идти на Восток.
Что по Желтой Дороге мне надо брести
Сквозь леса дровосеков и по маковым сонным полям.
Чтоб в Смарагдовом Городе ум обрести,
Чтоб сложить эту песню, чтоб спеть ее вам.
Я страданьями тяжкими ум раздобыл:
Думал друга порадовать умной своей головой.
Ну а друг обезглавил меня. Он меня загубил.
Ум мой в землю втоптал. И теперь он доволен собой.
Я премудрость обрел, я пришел на Восток,
Ну да разве найдешь благодарность средь страшных людей?
Видно, лгали мне ветер, земля и зеленый росток,
Видно, лгал мне Смарагдовый Бог-чародей.
Оглянусь я назад, на тяжкий и желтый мой путь:
Кто не лгал мне на этом пути? Не старался меня обмануть?
Мне не лгали лишь алые маки далеких горячих полей.
Они правду сказали: сон лучше ума. Так усни же скорей.
— Ну так и спи, нечего тут вопить! — сурово прикрикнул на голову Максим. — А то щас ногой по ебалу заработаешь.
Голова Мягкого испуганно замолчала, лишь мальчишеские головы продолжали напевать, словно в трансе:
— «Мне не лгали лишь алые маки далеких, горячих полей.
Они правду шептали, качаясь: «Сон лучше ума.
Так усни же скорей»».
— Нам-то спать некогда, — произнес Бессмертный, потирая сухие ладони. — Напротив, много работы. Для начала разведем костер.
Парторга бережно уложили на землю, и его коллеги по «диверсионной группе» засуетились, закладывая дрова для большого костра. Но песня Мягкого взволновала Дунаева, точнее, даже не Дунаева, а Машеньку — она повернулась на другой бок в своей норке (которая теперь скрыта была в тесте бублика) и улыбнулась во сне.
Джерри снял заплечный мешок, перевернул и вытряхнул на землю содержимое. Здесь было немало всякой снеди и выпивки: большая бутылка самогона, заткнутая газетой, несколько немецких фляжек со шнапсом, банки американской тушенки, пачки немецких галет, две связки копченых окуньков и лещиков, весьма недурных на вид, картошка, помидоры и огурцы, облепленные землей, явно раздобытые где-то на огороде, и даже белый, немного зачерствевший хлеб-соль прямо с солонкой и измятыми рушниками, на котором неумело были выложены запекшимися изюминками слова Herzlich Wielcomen — видимо какие-то трусливые селяне где-то радушно встречали фашистов.
Все это добро Джерри свалил на землю со словами:
— После боя и закусить не грех.
Вскоре уже огромный костер пылал на пригорке. Гниловатые осиновые полешки чадили, и дым ел глаза. Радный достал котелок и стал варить кашу с видом опытного кашевара. В котелке поменьше кипела вода для «чаепития».
— Плесните мне кипятку, Глеб Афанасьевич, не сочтите за труд. Мне лекарства запить надо, — сказал Бессмертный, вынимая из кармана пижамы какие-то бумажные конвертики с порошками. Радный протянул ему походную кружку с кипятком.
— Что вы принимаете, Константин Константинович? — с любопытством спросил Джерри.
— А это… из больницы. У нас с этим строго, — неопределенно ответил Бессмертный.
— А зачем вы их пьете, разрешите узнать? Разве вы больны? — снова спросил Джерри.
Бессмертный посмотрел на него, словно не понимая.
— Я живу в больнице, — сказал он сухо, — Те, кто живут в больнице, принимают прописанные им лекарства. Разве это нужно объяснять? — И он ссыпал себе в рот с коричневой бумажки белый порошок.
Дунаев понятия не имел, что Бессмертного зовут Константин Константинович. Но теперь он убеждался, что члены «диверсионной группы» успели неплохо познакомиться с Бессмертным.
«Интеллигенция, — угрюмо подумал он. — Вот зачем он мне про интеллигенцию толковал. Сам, видать, из образованных. „Плесните мне кипятку, не сочтите за труд“. Им друг с дружкой сподручнее, чем с нами, людьми из народа. Он себе компанию подобрал, а не мне. Правильно пел Мягкий: не лгут только маки».
Но Советочка внезапно прошептала в его сознании, словно бы отвечая Мягкому:
Мы по желтой дороге на Запад пойдем,
Мы везде прошагаем, где ты шел на Восток,
Твой родной, пожилой огородик найдем
И в пушистую землю втопчем юный росток.
Мы там ветер отравим и землю сожжем,
Чтобы впредь неповадно было лгать существам.
И лишь красные маки пощадим, сбережем.
С нами красные флаги пройдут по полям.
Станет миру светло и тепло от знамен,
Станет сонно от маков и прохладно от роз,
И тюльпаны стеною, и тени колонн…
И по иглам ума пробежится Мороз.
Пусть гвоздика, как гвоздик, торчит из груди,
Пусть кровавая струйка из-под шляпки бежит!
Пусть под шляпой закрылись глаза. Не буди.
Дай уму отдохнуть. Пусть и сердце поспит.
Джерри, Радный и Максимка оживленно выпивали и закусывали, вспоминая эпизоды минувшего боя. Больше всех ел Джерри Радужневицкий. Он жадно пихал себе в рот еду, запивая самогоном, но в разгаре трапезы вдруг вскочил и скрылся во тьме.
— Купаться побежал, — сказал Радный.
Бессмертный равнодушно сидел среди пиршества, без аппетита ковыряя кашу оловянной ложкой. Максимка же болтал больше всех. Возбуждение, овладевшее им во время боя, не оставляло его.
— Я как Мягкому Подносом башку срезал, так сразу в сторону Ржавого гляжу: как там ребята с ним ладят? Вижу: ребята ничего, держатся, но Ржавый все же наступает. А тут с другой стороны показался этот, Деревянный, а на носу у него вроде как бублик непропеченный. «Не Владимир ли это Петрович, феникс ясный? — думаю я. — Никак попал в оборот, парторг наш бедовый!» Что делать? И тут я гляжу в одну сторону и вижу: топор. Гляжу в другую и вижу: дрова. Дрова почти готовые. Осталось их только с топором поближе познакомить. Я свистнул: отступаем. Стратегическая передышка для рекогносцировки, вот как это называется.
Ну мы отошли в пространство и в пространстве шепчемся. Только Андрея Васильевича с нами нет. Куда-то исчез Андрей Васильевич и так до конца битвы и не появился. Не знаю, что он поделывал. Может, ему в бою с истуканами суховато показалось. Он у нас любит, чтобы все вокруг живое было. Большой любитель жизни. Ну, мы вдвоем с Глебом Афанасьевичем остались. Перешептываемся, прикидываем, как Железного на Деревяшку натравить. Глеба Афанасьевича смекалкой природа не обидела. Он быстро план составил. И получилось! Все получилось, как по писаному! Ну уж это вам, Глеб Афанасьевич, рассказывать.
Радный доел свою порцию каши с тушенкой, облизал ложку, затем протер ложку тряпкой и спрятал в нагрудный карман гимнастерки. Потом выпил немецкого шнапсу, пригладил усы и, глядя в костер черными блестящими глазами, повел рассказ.
глава 9. Сердце и топор (рассказ Глеба Афанасьевича)
Жил старичок среди полей,
Он жил и не грустил,
Пока в далекую страну
Сынка не отпустил.
Он ждал от отпрыска вестей
И вот дождался вскоре —
Его сыночек дорогой
Погиб в зеленом море.
Сынок вернулся в дом зимой,
В руках его — корзины,
А нос был сделан из ствола
Невиданной осины.
Такой осины не найти
Во тьме земного сада —
Осина толстая росла
У врат гнилого Ада.
Так начинается одна английская баллада, переведенная на русский язык. Впрочем, я цитирую по памяти, неточно. Мой отец, да будет вам ведомо, слыл известным в Царицыне механиком. В частности, он сам сконструировал одноколесный велосипед, на котором мастерски ездил. Любил точные приборы. Коллекционировал старинные барометры, метрономы, микроскопы и прочее. Вообще был человек разносторонних дарований. Имелись у него и литературные способности. Но больше он любил возиться с приборами: полировать движочки, подтачивать пружинки, навинчивать гайки… Впрочем, он написал один роман, довольно бойкий, но не очень развеселый, можно даже сказать безжизненно-залихватский роман, очень короткий, изданный им собственноручно на конопляной бумаге маленьким тиражом. Назывался этот роман в темно-зеленом переплете «Куница». В начале романа фигурировал один барин, большой любитель поохотиться на куниц, который нигде не был назван по имени, а обозначался с пренебрежением исключительно такими словосочетаниями, как «Наш-то» или «Нашенский» или «Этот самый». Любя страстно охоту на куниц, этот «Нашенский» и дом себе выстроил в форме куницы, соответственно и назвал его «Куница», и внутри собрал множество куньих шкурок, куньих маленьких черепов, куньих миниатюрных скелетов, куньих мумий, чучелок, рисунков с изображением куниц и прочего. Вскоре «Нашенский» умер и, как водится, «при странных обстоятельствах». Его нашли в кабинете с переломленным пополам ружьем в руках, а на лице у него отпечатался узор «в форме волны», то есть несколько параллельных, зигзагообразных линий. В доме «Куница» поселилось учебное заведение для благородных девушек. Там жила одна девочка, высокая, пухлая и смертельно застенчивая белоруска, с белой кожей и белыми волосами, но необычайно способная в науках. Звали ее Олеся Зотова. Тем временем началась Первая мировая война. Олеся Зотова бросилась в сестры милосердия, но ее не взяли из-за больных ног. Тогда она стала украдкой, пользуясь доверием учителей и классных дам, конструировать какой-то странный прибор, который должен был обеспечить русскую победу в войне. Назвала она этот прибор «Черная Эльза»: специально дала ему немецкое женское имя, считая, что немецкая смерть должна иметь немецкое имя. Как бы там ни было, во время ее опытов произошел чудовищной силы взрыв, да еще, к несчастью, случилось это в самый разгар занятий, так что около десяти учителей и учительниц и около шестидесяти воспитанниц не просто погибли в одночасье, но тела их оказались разбросаны по всей округе вместе с кусками стен, кровли, мебели, вместе с книгами и куньими чучелками. Долго их собирали, и наконец решили похоронить в общей могиле. Над могилой воздвигли кубической формы черный гранитный обелиск. Скульптор, который изготавливал обелиск, происходил из тех же мест. Кстати или некстати он вспомнил словно бы незавершенную легенду о гибели «Нашенского» и высек на обелиске волнообразный узор, написав под ним: Здесь покоятся жертвы дома «Куница» . Заканчивался роман сообщением, что вскоре случилось большое наводнение — вода смыла обелиск, размыла весь тот берег, унесла останки, и все затерялось, загладилось. Роман заканчивался словами