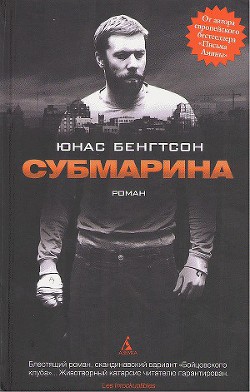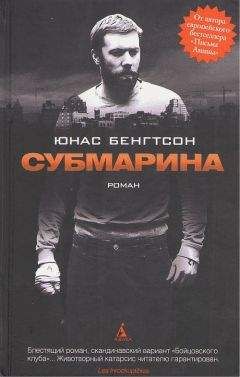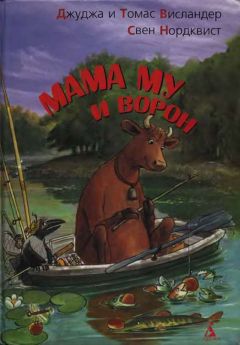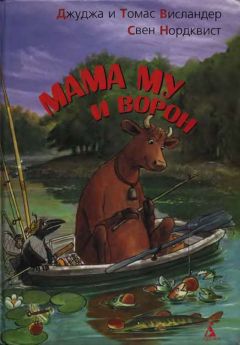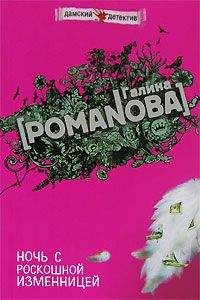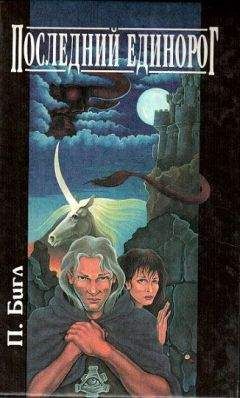Мне было жаль тебя будить, говорит София. Солнце уже зашло. Ты спал так крепко. Иду в ванную, умываюсь. Отлежал руку, до сих пор не чувствую. София включила телевизор — ты еще успеваешь посмотреть «Улицы Сан-Франциско».
Она сидит на диване поджав ноги, с пультом в руке. Улыбается мне: сейчас начнется. О’кей, но сначала что-нибудь выпить.
Все магазины зарыты. Дохожу до пиццерии. Была здесь пиццерия когда-то. Больше нет: теперь здесь магазинчик, а в нем полно алкоголиков. Большая собака или две. Тепло, хоть и вечер, снаружи на ящиках из-под пива сидят два алика, потягивают пивко. Молодой бангладешец, тот, что обычно отпускает, в подворотне раскуривает косячок с одним из постоянных клиентов. Захожу, покупаю пиво. Хозяин, мужчина очень маленького роста, вытирает руки о фартук и достает из холодильника бутылки. Рядом со мной два мужика спорят о расстоянии до Луны. На стуле у двери то ли спит, то ли плачет старуха-гренландка.
И тут я вижу дауна. Сидит, забившись в угол на одной из видавших виды деревянных скамеек.
Они с ним хорошо обошлись. Как тот бездомный, что всегда сначала покормит собаку. Перед ним полпиццы с отметинами от зубов и две пустые бутылки. Он смеется и пускает слюни, уголок рта вымазан соусом.
Ему нравится, нравится эта халабуда. Пей пиво, пей пиво, дружок, и он смеется и утирается, громко смеется.
Я спрашиваю, сколько он уже здесь сидит. Долго, отвечают мне, зашел сюда, и мы не знали, что с ним делать, но ему понравилось, ему понравилась халабуда.
Отвожу дауна на его этаж. В тот момент, когда я вхожу в комнату Софии, на улицах Сан-Франциско круто разворачивается приземистая американская тачка.
Ночью мне снится, что я занимаюсь с Аной любовью в подвале. Закопченные стены, мы лежим на старых коврах, пахнущих сыростью и грибком. Снаружи доносятся автоматные очереди и звуки падающих бомб, как в фильме про войну. Я лежу на ней, уткнувшись лицом в шею, она обнимает мою спину ногами. Когда падают бомбы, стены трясутся, и мы тоже трясемся. Я собираюсь кончить, но тут поворачиваю голову, а рядом с нами лежит мужчина, он смотрит на нас или сквозь нас, он держится за живот, кровь течет между его пальцев, рот полуоткрыт, как и у Аны. Может, это ее отец, может, сосед. Я просыпаюсь, скрюченный, завернутый в мокрую от спермы простыню.
29
Он пошел за ней, сам не зная почему. Он рассказывает мне это, пока мы сидим на его выжженном чердаке, свеча стоит посередине, между нами. Он вышел из автобуса рядом с Озерами, она была слишком тепло одета, светлое пальто и темные сапоги. Очень женственно, безупречно, тепло, но безупречно. И хотя он находился не настолько близко, чтобы унюхать ее духи, но все же чувствовал их аромат в воздухе. Он совсем не так это рассказывает, но я сам заполняю паузы. Думаю, что понимаю его, понимаю, что он хочет сказать, но не подаю виду.
Ну и он пошел за ней по улице, не настолько близко, чтобы она заметила, но достаточно близко, чтобы слышать стук каблуков о плитки тротуара, звонкое цоканье высоких каблуков. Он слышал только звук каблуков, не слышал шума машин, люди на улице разговаривали беззвучно, был лишь звук каблуков: цок, цок, цок. Как такое может быть? Он спрашивает меня, но я не могу ответить. Ну, в общем, он только это и слышал.
Одна нога за другой, цок, цок, цок, задом она не виляла, нет. Она не такая, никакого виляния задницей, она не про этих пижонов в понтовых тачках с тонировкой.
Она перешла через дорогу, неторопливо пошла вдоль Озер, а Иван за ней.
Я был счастлив, говорит он мне, очень счастлив, когда шел за ней. Хотя это причиняло боль, он хотел быть к ней поближе, очень близко.
Ну ничего, ему и так было хорошо.
Она вошла в подъезд, а он за ней, успел схватиться за дверную ручку до того, как дверь захлопнулась.
Иван говорит, что просто хотел подняться с ней по лестнице и, может быть, может быть, в то время как она заходит в квартиру, подняться дальше по лестнице, медленно, чтобы почувствовать запах ее волос. Говорит, что шел бы по лестнице, ничего ему больше не надо было, просто медленно пройти с ней рядом, пока она открывает дверь. Надеялся, что она не сразу откроет. Он бы прошел мимо, просто случайный человек, ему нужно выше, идет к товарищу, два человека, проходящие мимо друг друга в подъезде, в этом же нет ничего странного. И по пути наверх, проходя мимо, оказаться к ней так близко, так близко, чтобы почувствовать ее тепло, так близко, чтобы вдохнуть аромат ее волос.
Может, он обернулся бы, может, заглянул бы в приоткрытую дверь. В квартиру девушки, квартиру с ее вещами — вещами, которые она собрала вместе, вещами, которые для нее что-то значат, есть ли там подушки на диване? Есть ли ящичек с письмами? Есть ли пробнички с духами, которые ей нравятся, но на которые не хватает денег? Не то чтобы он собирался разглядеть все это в тот краткий миг в приоткрытую дверь, но он бы все это почувствовал, потому что дом — это нечто такое же личное, как и тело. А у него давно не было дома.
Но вот Иван поднимается по лестнице — и я не знаю, говорит он, я просто хотел пройти мимо, да? я ведь и правда хотел пройти мимо, и чтобы она ничего не заметила, я просто хотел вдохнуть, очутившись рядом. Вот и все. Тут ведь ничего такого нет или все же… Когда я поднимался, она открывала дверь, а я поднимался, как и хотел, хотел мимо пройти, и тут она обернулась. Обернулась и посмотрела прямо на меня, прямо в глаза, и…
Она закричала и кричала, кричала, кричала, и это было невыносимо. Невыносимо. Я пытался… хотел сказать что-нибудь, объяснить ей, что я всего лишь хочу понюхать… Но побежал, побежал вниз. Я правда не хотел ей ничего сделать, Ник, правда не хотел.
Я смотрю на него, киваю. Он не хотел ей ничего сделать. Я верю ему. Я так и говорю, и, может, он и правда не хотел ей ничего сделать. Откуда мне знать, может, и хотел, может, хотел вмазать ей хорошенько, расквасить в кровь лицо, выбить зубы, связать запястья проводом, привязать к батарее и трахать во все дыры, пока глаза не повылазят… Он смотрит на меня, я говорю: извини. Мне в последнее время нездоровится. Плохо сплю…
По пути домой я звоню брату. Телефонная будка воняет мочой. Я пережидаю восемь гудков и кладу трубку.
30
Когда мы с Софией вместе, то занимаемся сексом. Всегда. Иногда она мне дрочит. Так проще.
Влажной салфеткой София вытирает сперму с руки, вытирает головку члена и оттирает брызги с моих треников. Я была неплохой матерью, говорит она. Я правда была неплохой матерью. На обеденном столике лежит письмо с синей «шапкой». Я заметил его, когда вошел, но не стал спрашивать. Оно похоже на те, что она мне и раньше показывала: письма от адвоката, бесплатного государственного адвоката, она мне о нем рассказывала. Я была неплохой матерью. Но как я теперь могу это доказать? Как мне доказать им, что я ответственная? Что я люблю его! Как, если мне нельзя с ним видеться! Как я покажу, чем мы обычно занимаемся? Как докажу, что провожаю его в детский сад? Стираю его одежду! Готовлю ему вкусную, полезную еду — как, если мне нельзя с ним видеться?
Он меня забудет, говорит она. Он уже такой большой… Пару лет с новой мамой. Пару лет с папой и с новой мамой, и я стану чужой теткой, которая его однажды украла. Он не должен меня забыть. Иногда мне хочется… я едва могу выговорить это, но иногда мне хочется, чтобы его отец был плохим отцом. Очень плохим отцом. А мачеха — злой. Чтобы они плохо относились к Тобиасу. Чтобы он думал обо мне по ночам. Чтобы хотел домой, к маме. Когда я так думаю, я понимаю, что это неправильно. Что так думать нельзя. Что лучше, если они будут добры к нему.
Он забудет меня.
Адвокат мне верит, говорит она и протягивает мне письмо. Я держу его в руках, не заглядывая. Он будет писать письма в администрацию. Он верит мне. Он говорит, это может отнять годы. Говорит, что со мной дурно обошлись. Говорит, что я сильно себе навредила, самовольно его забрав. Он говорит, что понимает меня, но я сделала только хуже. Говорит, это может отнять годы. Надо быть реалистами.