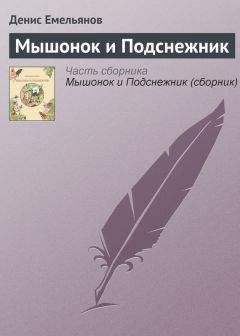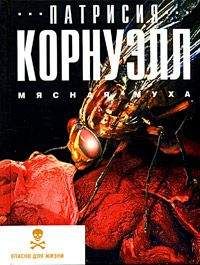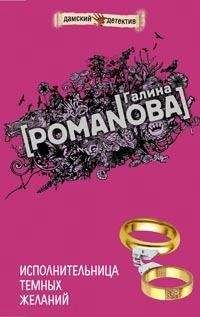Она схватила Алексея Игнатьевича за руку и потащила по коридору, сквозь толпу полугнилых пациентов. Люди расступались перед Алексеем Игнатьевичем в стороны, отводили глаза. Проходя мимо мимо молодой, но уже помертвевшей мамаши, библиотекарь ощутил удивительное по силе желание оросить ее гноем с ног до головы, однако благородно сдержался.
— Тут половина людей не сегодня-завтра сдохнет, — доверительно сипела в ухо медсестра, — вы-другое дело. Послушайте моего совета-соглашайтесь, глупый вы человек!
— На что это, я должен, простите, соглашаться, — начал было поседевший внутренне библиотекарь, но в этот момент, медсестра пнула его ногой по коленке. Алексей Игнатьевич согнулся в три погибели, а медсестра ловко запрыгнула ему на спину. От неожиданности, Алексей Игнатьевич припустил по коридору. Толстая медсестра пришпоривала его и покрикивала: Эгей! Эгей! Вокруг них поднялась веселая кутерьма. Какие-то небритые люди выскакивали из-за портьер и неприлично смеялись, показывая пальцем.
— Алексей Игнатьевич пожаловали! — вопили они хором.
В конце коридора со скрипом открылась кособокая дверь. Именно к ней несся библиотекарь, пришпориваемый распутной медсестрой. В дверном проеме маячила треугольная почти фигура с кумедной шляпой на голове.
— Не успею затормозить! — вихрем понеслось в голове библиотекаря, но тут медсестра соскочила с него и крепко ухватила сзади за пиджак.
Алексей Игнатьевич чудом удержался на ногах. В голове у него все перемешалось, перед глазами плыли разноцветные круги. Фигура в дверном проеме сделала шаг вперед. На лошадином лице плесенью цвела улыбка фавна. Носа у человечка не было вовсе, глаза имелись на выкате, кадык ходил под морщинистой кожей, создавая впечатление, будто обладатель его силится вот-вот исторгнуть из себя плохо переваренную пищу.
— Петр Ильич Воропаев! — отрекоммендовала медсестра и шаркнула ножкой.
Петр Ильич, судя по всему, был человек решительный. Икнув, он засеменил по паркету, оббежал вокруг библиотекаря, преданно заглянул в глаза, восхищенно щелкнул языком и протянул потную ладошку.
— Алексей Игнатьевич, рад! Очень рад! Умоляю!
— Что такое? — обеспокоился библиотекарь.
Воропаев аж присел от смущения. В коридоре повисла напряженная тишина.
— Алексей Игнатьевич, — церемонно пропел Воропаев, — милый, дорогой Алексей Игнатьевич…
— Продайте нам свой прыщ!
Тотчас же коридор взорвался криками. Пациенты, наперебой подбегали к библиотекарю, бухались перед ним на колени и умоляли продать прыщ. Медсестра даже попыталась расстегнуть ему ширинку.
— Как же вы не понимаете! — вопил Воропаев, — Это эпохально! Продайте, продайте его нам!
— Сегодня же ночью, я вам отдамся! — визжала медсестра.
Алексей Игнатьевич ровным счетом ничего не понимал. Он бы и не против был продать странной этой компании свой прыщ, но само по себе предложение попахивало варварством.
— Позвольте, товарищи… — начал было он, но его и слушать не стали.
— Согласен! Алексей Игнатьевич согласен, — разнеслось над коридором.
— Аллилуя!
Тут уж все, включая Воропаева пали ниц перед Алексеем Игнатьевичем, и принялись петь осанну. При этом медсестра, как бы случайно ласкала мошонку взопревшего библиотекаря сосискообразными пальцами.
— Слава прыщу! — стройно пели пациенты, — Слава! Слава! Слава!
— Товарищи! — взмолился Алексей Игнатьевич! — Господа!
Воропаев недовольно уставился на него.
— Что еще такое, Игнатьич?
— Как же я продам вам свой прыщ?
Воропаев вскинул изумленно бровями, мол все это пустяки, поднялся, отряхнул вельветовые брючки и по-свойски обнял Алексея Игнатьевича за талию.
— Видите ли, любезный Алексей Игнатьевич, прыщ ваш по-своему уникален. Ведь это не простой furunculae, ни тем более-карбункул. Нет, милый вы мой человек, здесь имеет место быть нечто новое, и доселе неизведанное, виток эволюции, если можно так сказать, новая ступень развития человека разумного. Вам не нужно продавать свой прыщ отдельно от своего тела. Ведь….словом, вы и есть прыщ!
— Что же со мною будет?
— А? — Воропаев озадаченно посмотрел на Алексея Игнатьевича, словно первый раз в жизни его видел. — Ничего не будет…. Хуйня какая-то будет. А так ничего. Положим вас на обрастание, до утра глядишь все и свершится!
— Слава Прыщу! — гаркнули пациенты.
Алексей Игнатьевич попятился осторожно. Ему вовсе не хотелось ложиться на обрастание. От самого слова этого веяло седой стариной и неслыханными ужасами.
— Алеша! — звонкий голос его жены, Варьюшки, бичом хлестнул по барабанным перепонкам. Алексей Игнатьевич сжался, будто и не было его среди этих вопящих, беснующихся тел.
— Алешенька!
Он обернулся. Одетая в песью шубу перед ним стояла жена. За ее спиною возвышалась нескладная фигура соседа. Он с усердием комкал пахучий ком туалетной бумаги. На лице его было написано блаженство.
Жена потянула руки к Алексею Игнатьевичу и все смешалось. Осознание того, что жизнь конечна, а жизнь прожитая конечна тем более, захлестнуло библиотекаря. Он прикрыл глаз, ожесточенно моргнул раз-другой. Морок не отпускал. Виделись Алексею Игнатьевичу золотые башни и розовые купола, таинственные птицы о двух головах возвещали приход нового мессии. Виделись ему портовые города, пропахшие морем рыбацкие шхуны. Странная легкость охватила его.
— Алексей. Ты должен, должен нам всем. Мы просим тебя!
— От лица человечества! — гавкнул сосед.
Воропаев уже помахивал невесть откуда взявшимся шприцем.
— Раз и готово! Голову то мы вам отнимем, Алексей Игнатьевич! Ать-два!
Покорный и преисполненный желтым облаком пронизывающей майи, Алексей Игнатьевич подошел к грозному Воропаеву.
— Делайте, что дَолжно!
Тотчас же двое дюжих пациентов-менингитчиков, подхватили Алексея Игнатьевича под руки. Воропаев же легонько коснулся библиотекарского прыща, будто прощаясь, и несильно уколол шприцем прямо в гноистый кратер…
* * *
Агония продолжалась еще несколько часов. Алексей Игнатьевич метался по пропитанной гноем кроватке, выкрикивая непристойные фразы. Постепенно вопли его становились все менее связными-чудовищная плоть прыща росла, забивая рот. К вечеру, библиотекарь затих. Голова его превратилась в огромный налитой прыщ.
Ровно через шестьдесят две минуты после остановки сердца, прыщ лопнул, ознаменовав тем самым начало новой эпохи.
— Ваша старуха — дочь безумна, — с горечью произнес санитар.
Яков поморщился и утлым взглядом окинул сморщенную обезьяноподобную фигурку, что примостилась на самом краешке скамьи. Существо зашипело.
— Видите, у нее покатая голова. Так всегда происходит, — со знанием дела бубнил санитар, — Сначала их привозят на дианетизацию, а потом-происходит.
— Что происходит? — тупо переспросил Яков.
— Покатая голова! Это же естественный процесс, парампара, великая реликвия катаров, как вы не понимаете?
— Я смущен, — пробормотал Яков.
— Вы не должны бояться. Утилизация крайне проста.
Санитар дружелюбно улыбнулся и встал на колени перед Яковом. Его глаза с собачьей преданностью пожирали мошонку протагониста.
— Убей эту мразь, — мечтательно просипел Яков. Санитар изогнулся дугой, взмемекнул и смертным кусом впился в промежность Якова. С хриплой ленцой рванул головою вбок и в сторону, выгрызая мягкую плоть, сонно зарделся фонтаном темной крови, закатил мгновенно опустевшие глаза, писком выражая несогласие с точкой зрения автора.
Яков умер.
— Он мерв! МЕРВ! — булькнул санитар, жуя, — МЕ-ЕРВ!
Старуха на скамье хохотнула баском, определяя меру бессмертия и рванула фуфайку на груди, обнажая коричневую сухую плоть. На санитара осклизлым глазом уставился сосок.
— Анна, — прошептал санитар окровавленным ртом…. Милая Анна….
Его рвало добродетелью.
Под перестук колес, Сермяжный то проваливался в дрему, то, вдруг, открывал глаза, и недоуменно оглядывал купе. Путешествие его только началось, но будто бы вечность прошла с того момента, когда поезд, лязгая и стеная, оставил жаркий, задыхающийся перрон позади.
Бесполезная газета валялась на коленях Сермяжного. Глаза привычно останавливались на клишированных архетипах-Инфляция, Доллар, Нефть. Однако, попытки сконцентрироваться на чудовищных статьях, оканчивались полным провалом. Смысл написанного ускользал, оставляя после себя ощущение гнилостной сладости во рту.
Сермяжный трудно подышал и потянулся было за заветной бутылочкой, что сочно ожидала его в куртке, но одернул себя. Позже, позже можно будет расслабиться. А коль войдет сейчас попутчик, сосед невольный, свидетель и удивится, и поразится и начнет презирать тотчас же Сермяжного за железнодорожный алкоголизм.