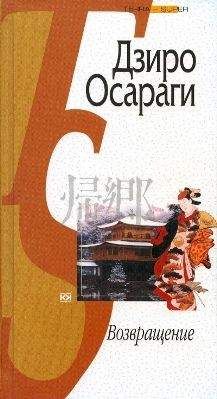— Это старинное место, оно построено для почитателей монаха Хан. Но здесь всегда пусто за исключением дня годовщины его смерти.
— Далёкое от житейской суеты место. Скорее напоминает театральную сцену.
Усиги почти начал говорить, что это место наиболее подходящее для него, для человека, который проиграл войну, и на которого был наложен запрет на общественную деятельность из-за его высокого положения в вооружённых силах. Но он всё-таки воздержался, так как между ними было достигнуто молчаливое понимание избегать в беседе болезненных тем. Молча он выпил свою чашку сакэ.
— Так значит, как ты говоришь, ты ещё не встречался с женой и дочерью? Но ты их, что не любить?
— Люблю ли я их? Об этом я думаю. Но я сам, по-своему характеру, не намерен делать первый шаг.
— Одинокий ты человек!
— Нет, это ты одинок. Ты как отец-японец страстно любил своего сына, и ты… в этой войне убил его. Ты, действительно, должен бы чувствовать себя одиноким.
Глаза Усиги загорелись, как бы протестуя против сказанного, но он промолчал и залпом осушил свою чашку.
— Давай не будем об этом говорить! — сказал он резко, но затем, смягчившись, продолжал:
— Коль скоро мы здесь, я скажу следующее. Я думаю, он погиб с честью. Его смерть — это единственное в этом мире, что немного утешает меня, ибо благодаря нему я остался жив и могу увидеть, что происходит с Японией. Он искупил мою вину. У меня в жизни осталась единственная цель: когда будет возможность покинуть Японию, я поеду на остров Мидуэй, чтобы посмотреть на море, где утонул мой сын.
Он остановился, и между ними наступило глубокое молчание. Лицо Усиги слегка подёргивалось от волнения, с которым он не мог совладать.
— Я хочу попросить у него прощения, поблагодарить его и сказать, что он совершил подвиг. Это всё, что я хочу. И я думаю об этом, как только встаю утром, и когда неожиданно просыпаюсь ночью. Это единственное, что я ещё могу делать в моём нынешнем состоянии. Моя жена так же думает.
— Не удивительно, если ты будешь продолжать вести себя так дальше, — с упрёком сказал Кёго. — А как ты питаешься?
— Питаюсь? — В голосе Усиги послышались сатирические нотки. — Молодыми побегами бамбука. К тому же, мой дом не сгорел, и в нём всегда есть, что можно продать.
— А ты не собираешься работать?
— Я даже и не думал об этом. Если будет нужно, я приложу усилия, и что-нибудь подвернётся. Пока я просто сижу… Когда я подумаю, сколько моих друзей погибло, а я остался жив, то мне становится стыдно и пропадает желание что-нибудь делать.
— Усиги! — резко сказал Кёго. — Ты не прав.
— Не прав?
— Ужасно не прав. Ты всё ещё таскаешь смерть на своих плечах. И прежде всего перестань хныкать.
— Хныкать?
— Да. Ты взрослый человек и не можешь перестать оплакивать своего сына. Это было бы нормально для женщины, но ты ведь был военным. Я ненавижу подобную сентиментальность. Дай мёртвым покоиться в мире… Ты с трудом остался жив и даже не ценишь этого и пребываешь в плохом настроении. Разве не так? Дай мне сказать. В этой сумасшедшей войне погиб даже твой сын, но ты остался! Но ты ведь не ценишь, что спасся от верной смерти, и, оставшись в живых, не собираешься что-нибудь совершить вместо своего сына. Разве это не так? Ты и тебе подобные до основания разрушили Японию, повергли народ страшным страданиям и…
— Мория! — Усиги сел, его лицо побагровело.
Несколько побледнев, Кёго извинился перед другом, но продолжал:
— Но ведь всё так, как я говорю. Я понимаю твоё желание искупить вину. Но это ведь ещё одно проявление японского сентиментализма. Можешь ли ты это отрицать? Нам уже пора избавиться от него. Почему ты не можешь стряхнуть с себя призрак смерти и попытаться начать жить. Что в этом плохого? Если для какого-либо проекта нужен капитал, я его предоставлю. С этой целью я и пришёл сегодня.
Усиги тяжело взглянул на Кёго.
— Ты говоришь, что дашь мне деньги?
— Да, если они послужат для какого-либо дела.
— Нет, я отказываюсь, — сказал он резко и затем замолчал.
Кёго посмотрел на ничего не выражающее лицо Усиги, и у него неожиданно возникли ассоциации с тяжёлыми чертами лица молодого жандарма. У его старого друга проступило выражение тупости, которое их в чём-то объединяло и которое больше всего ненавидел Кёго.
— Не мог ли ты более откровенно говорить со мной? — спокойно спросил Кёго, на что Усиги неожиданно взорвался:
— Это твои деньги.
Кёго был захвачен врасплох, но сумел сдержаться. Что-то холодное и тёмное сдавило на мгновение его грудь. Он поставил на стол свою чашку сакэ, которую держал в руках.
— Значит, вот о чём ты думал.
— Пожалуйста, не наноси удар по моему самолюбию. Ты, наверное, заметил… Я потерпел поражение в жизни, но когда ты сегодня пришёл, я даже не мог тебя пригласить в дом, ибо это было бы непростительно перед мёртвыми. Вот такой я есть.
— Так вот почему ты выскочил из дома навстречу мне со своей бутылкой и предложил сразу пойти любоваться цветами. Я и не обратил на это внимания, так как не мог ничего подобного себе представить.
— Ты думаешь, что я не прав. Извини меня. Я упрямый человек.
— Я не должен был приходить, но я не собираюсь просить прощения.
— Я слышал, что ты единственный, кто взял всю вину на себя, при всём том, что…
— Это так. Я нечестный человек, который воспользовался служебными деньгами и, не дожидаясь окончания расследования, бежал за границу. И только благодаря тому, что Япония потерпела поражение и больше не существует военно-морское ведомство, я смог вернуться.
— Но об этом хватит. Давай выпьем.
Кёго всё больше злился на своего друга, хотя как ни странно причиной его раздражение было не то, что Усиги своим поведением причинял ему боль. Он внезапно понял, что делало Усиги похожим на того молодого жандарма — это их неспособность чувствовать несчастье других. Несомненно, Усиги был великолепный человек, но он был человек из прошлого, из уничтоженной старой Японии. И он продолжал высокомерно смотреть на новую действительность и, как и в прошлом, не собирался ни в чём уступать и ни с чем соглашаться. В нём по-прежнему жил старый морской офицер, который принадлежал к другому классу и почти к другому миру.
Они поднялись по тропе, идущей по крутому склону среди стройных стволов криптомерий на вершину холма. Уже наступил вечер, и свет луны вырывал из темноты белые стены монашеских келий с их чёрными панелями у основания и странными окнами наверху. Через ворота на вершине холма они вошли на территорию Холла Основателя храма Кэнтедзи, пройдя мимо расположенных друг против друга трапезной и зала медитации, и через раскинувшие свои ветви бесчисленных старых можжевельников вышли к распахнутым дверям Зала Основателя храма и Зала Света. Днём и ночью горела единственная лампа, которая подчёркивала пустоту огромного внутреннего пространства.
Пройдя дальше, они оказались около старого буддийского храма. Тусклый свет освещал бумажную перегородку трапезной, вокруг не было ни души.
— Это как раз то место, которое я тебе хотел показать.
Только колонны возвышались на твёрдом известковом земляном полу. Единственная лампа, расположенная перед центральной нишей, освещала внутренность храма, свет которой, желтоватый и тусклый, дрожал на его стенах. Луна освещала стволы бамбука за окнами храма.
— Мне сказали, что внутри имеется деревянное изображение основателя или мемориальная доска с его именем, которому они поклоняются. Но это не имеет для меня никакого значения. Сам зал очень красив. Мне нравится его пустота, и я часто прихожу сюда.
Все эти отвлечённые разговоры Усиги вызывали у Мория только раздражение. Действительно, это был спокойный Зал храма в один из весенних вечеров. Но в городах банды воров продолжали рыскать среди руин и развалин, а станции метро были заполнены бездомными жертвами войны.
«Но, Усиги, — думал Мория, — у тебя подобные мысли не возникают в голове. Ты весь сконцентрирован только на себе и убеждён, что твоя жизнь уже закончена».
— Хочешь возвращаться?
— Хорошо, пошли.
Они шли вниз по неосвещённому склону в направлении двухэтажных ворот. Со стороны цветущих сакур были слышны голоса людей, и в свете луны они скоро увидели их тени, и среди них можно было различить детский голос.
— Ты сейчас пойдёшь вновь на станцию Кита-Камакура? — спросил Усиги.
— Нет, я отнюдь не сержусь на тебя из-за моей проблемы, но я хотел бы ещё поговорить с тобой, ты не возражаешь?
Усиги хитро улыбнулся:
— Может, уже хватит?
— Нет, — с упрёком в голосе твёрдо сказал Кёго. — Возможно, ты вновь рассердишься, но я хочу изгнать из тебя демона. Приезжать сюда снова будет слишком обременительно.
— Будь снисходительным и прости меня.