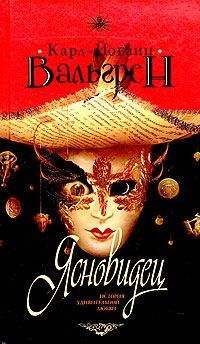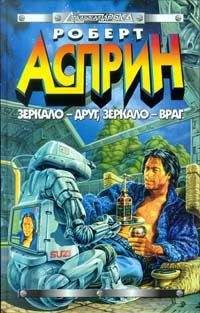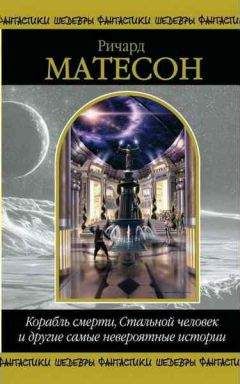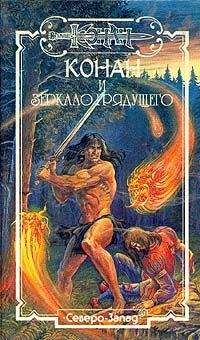Йон и Андерс бормочут что-то о времени, которого нет, о деньгах, которых тоже нет. Мы уже посылали записи, и ничего путного не вышло. Что они чувствуют по этому поводу? Письма с отказами от «ЭМИ» или «Сонета»[34]… Я не знаю. Я даже не знаю, как я сам к этому отношусь.
Миро поворачивается ко мне.
— А ты как считаешь, Йоран? Надо же что-то делать!
Я улыбаюсь и молчу. Я сам не знаю, что я хочу. После маминой смерти все словно бы потеряло смысл. Я, конечно, мечтаю о том же, что и Миро; в конце концов, музыка — это единственное, что я по-настоящему умею, и никто это у меня не отнимет: чувство, мастерство. Ну и что? Как далеко можно с этим уйти?
Я ставлю гитару и беру Миро за локоть.
— Ты прав! — говорю я. — Действительно, надо торопиться.
После репетиции я провожаю Миро домой. Он живет в двухкомнатной квартирке в Скугсторпе с видом на автостоянку и магазин. Он так же не находит себе места, как и моя сестра… и ему в самом деле надо торопиться. Торопиться с чем? С честолюбием, со стремлением кем-то стать. Миро снимает эту квартиру уже года два, с тех пор, как получил постоянную работу на пивоварне. День за днем он разливает пиво и прохладительные напитки на конвейере, а по вечерам сидит дома, играет на гитаре и мандолине и мечтает прокормиться музыкой. В прошлом году фабричный доктор обнаружил у него остеохондроз, у Миро болит спина, но он принимает болеутоляющие таблетки и никому не говорит ни слова, что у него что-то болит… отказывается признавать поражение.
Мы сидим в гостиной и смотрим какой-то плохой фильм. За окном сияет яркий зимний месяц, и в его призрачном свете снег кажется сливочно-желтым. На телевизоре лежат губная помада и сережки.
Иногда я завидую Миро. Для него любовь никаких жизненных проблем не составляет. С тех пор, как мы выросли, у него все время какие-то женщины — то одна, то другая. Для него все просто. Он мгновенно влюбляется и так же мгновенно остывает, отряхивается и начинает все сначала, как будто ничего не произошло. Я часто думаю, что это наше с ним главное отличие, и не могу понять, достоинство это или недостаток.
Фильм наконец кончился. Миро зажигает свет и смотрит на меня с состраданием.
— Что с тобой происходит? — спрашивает он после паузы. — Опять отец?
— Что — отец?
— Ты знаешь.
— Не знаю.
Миро разводит руками.
— Ты хоть бы снял отдельную квартиру. Неужели ты не можешь себе это позволить? Я имею в виду… ну что ты топчешься там, как нянька?
— Никакая я не нянька. Я сам так хочу — побыть с ним.
— Ну и во что ты превратился? Что ты сейчас собой представляешь? Усталый и разочарованный тип…
Он вздыхает и идет в кухню. Я слышу, как он там возится: наливает прихваченное с работы пиво. Миро возвращается и ставит стаканы на стол.
— Скажешь, преувеличиваю? — спрашивает он сухо. — Может быть… может быть, мне, прежде чем учить тебя жизни, стоило бы сначала присмотреться к самому себе… Все так погано… группа на холостых оборотах, ты… выпал из обоймы, сидишь там со своим папашей. Мы просто обязаны сделать эту запись. Повторяю — надо торопиться.
Я ложусь на диван и улыбаюсь. Почему-то мне смешно… не знаю, почему. Квартира Миро похожа скорее на большую детскую. Ряды видеозаписей, в основном фильмы-концерты, Роллинг Стоунз и Ю-Ту… Афиши на стенах — «Аэросмит», Майлс Дэвис с физиономией, как у привидения. За окном: месяц и продуктовый магазин.
— Какого черта ты смеешься? — спрашивает Миро.
— Не знаю… просто так. Ты, конечно, прав: что-то надо делать.
Миро отхлебывает из стакана и щурится на лампу. Мне странно на него смотреть… Мы дружим с раннего детства, но сейчас он отдаляется от меня, медленно, словно растворяется в воздухе…
Утро. Я сижу в новом магазине Свенссона и размышляю. Сквозь витрину все еще видно пепелище, закопченная стена, как сценическая кулиса, символизирующая военное поражение. Я размышляю аккордами и гармониями. В голове вертится начало песни, вступление, обрывки тестов, несколько риффов[35], подходящих для рефрена. Снимаю гитару со стены и начинаю нащупывать, как все это будет выглядеть.
Свенссон, сидя за сломанным пианино, подозрительно за мной наблюдает.
— Нет, — вдруг говорит он. — Здесь нужен уменьшенный, иначе гармония не выстраивается.
Я пробую аккорд и вслушиваюсь… нет, здесь нужно что-то другое, мне не нужно ничего выстраивать, мне нужна не чистая гармония, а диссонанс, удар… Я закрываю глаза. Может быть, уменьшенный септаккорд… с неожиданным басом… и на нем и остановиться. Пусть застрянет в ушах эта чертова септима… Почему мне так нравятся тревожные, неустойчивые аккорды?
Свенссон уставился на меня и качает головой. В глазах его появляется диковатый блеск.
— Ну да, ну да, ты по-своему прав, — заявляет он. — В мое время этих гармоний не существовало, во всяком случае, в той музыке, что я играл. Такое только негры любили… и моя жена, естественно, хоть она в музыке ни бельмеса не смыслила.
Свенссон грустно замолкает. Я откладываю гитару, мне вдруг расхотелось сочинять. И почему ему стало грустно — может быть, я напомнил ему о чем-то?
Жена Свенссона умерла год назад. И его тоже посетила смерть, невидимая, приходящая без приглашения гостья. Фру Свенссон долго лежала в больнице в Варберге, двустороннее воспаление легких плюс еще что-то с сердцем. Мы были оба в магазине, когда они позвонили. Свенссон взял трубку. Я обслуживал покупателя, и до меня доносились обрывки разговора.
— Ага, значит, чертовски быстро… говорите, не мучилась… заснула, и все…
Вдруг в его голосе появились сварливые интонации — такие же, как когда он разговаривал с чем-то не полюбившимся ему покупателем.
— Нет, я приеду вечером… оставьте ее лежать, как лежит, не трогайте! И глаза, черт побери, закройте… не хватало только, чтобы она смотрела на меня и упрекала!
Свенссон положил трубку на рычаг и огляделся. Мне показалось, он уменьшился в размерах, стал легче, в нем словно что-то исчезло, какой-то объем, он стал занимать меньше места в пространстве. Может быть, это и была она, его жена? Вернее, та часть его жизни, что принадлежала ей? Свенссон уставился на моего покупателя.
— Все! — зарычал он. — На сегодня все! Уходите!
Всю вторую половину дня мы сидели на вращающихся пианинных стульях и пили виски. Молча, ничего не требовалось говорить — мы прекрасно друг друга понимали без слов… к тому же и говорить было нечего. Я уже собрался уходить домой, как он вдруг крепко взял меня за плечо — я даже вздрогнул от неожиданности. Это было что-то новое — раньше он никогда не позволял себе такой фамильярности.
— Йоран, — сказал он. — Ты должен взяться за это, если я не потяну…
В конце той же недели магазин сгорел. Свенссон позвонил мне поздно вечером и сказал:
— Пожар. Приходи поскорей; все в огне.
Когда я прибежал, пожарные уже были на месте. Свенссон стоял неподвижно на противоположной стороне улицы — в тапочках и ночном колпаке. Не помню, что я ему сказал. Помню только его лицо — красное, как кровь, в отсветах пламени. Я тоже стоял не двигаясь, держал его под локоть и думал, что все это напоминает мне что-то, только не мог вспомнить, что. Свенссон дрожал, как новорожденный, глядя, как пылают десятилетия… черно-оранжевые языки пламени плескались, как флаги, стекло в витрине расплавилось, словно было сделано из воска. Чуть поодаль на пожар глазели несколько юнцов, и лица их тоже казались нереальными в отблесках пожара. Все было черным и красным, как во сне… помню бормотание Свенссона: «Что-то все же есть… что-то все же есть»… Что он имел в виду? Музыку, Огонь или Смерть? Мне очень хотелось его спросить, но я почему-то боялся.
Всю весну мы не работали, но Свенссон исправно платил мне жалованье — снимал с какого-то неизвестного счета. Конечно, дел было все равно очень много; думаю, что эта суета помогла ему справиться с горем. Бесконечная переписка со страховыми компаниями, поиски нового помещения, новый склад… Только после смерти жены Свенссона и этого пожара я осознал, что моя мама и в самом деле умерла. Оказывается, целый год я словно бы игнорировал ее смерть, мне все казалось, что она жива — уехала куда-то и скоро вернется. Скоро, завтра, на следующей неделе… Но этой весной я понял, что мама ушла навсегда, и в первый раз в жизни разрыдался.
Наступила весна, и папа словно пробудился от спячки. По утрам я слышал, как он насвистывает в кухне те же мотивчики, что и тогда, когда я был совсем маленьким, — простые, чуть ли не атональные, но заряженные непонятной радостью.
— Как ты, папка? — спрашиваю я его чуть не каждый день. — Жизнь продолжается?
Он улыбается в ответ своей мечтательной улыбкой.
— Продолжается. Сейчас лучше… И в конце концов, она же должна продолжаться!
Папа старается ввести в свою жизнь некий порядок; благодаря этому у него, наверное, появляется иллюзия, что он работает. По утрам он читает по определенному плану; он же должен знать все, и на этот раз углубляется в геологию.