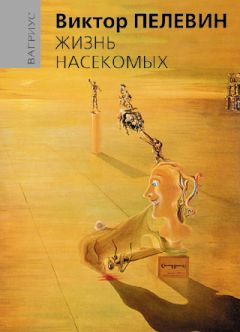В траве впереди мелькнул красный огонек, и Митя автоматически повернул к нему. Когда он оказался так близко, что на всем вокруг появился слабый красноватый отблеск, Митя полетел крадучись, подолгу зависая за широкими стеблями и незаметно перелетая от одного к другому. После нескольких таких маневров он выглянул из-за стебля и увидел рядом, прямо перед собой, двух очень странных, ни на кого не похожих красных жуков. На головах у них были большие желтые выросты, похожие на широкополые соломенные шляпы, а низ брюшка был, насколько Митя мог разглядеть, цвета хаки. Они сидели на стебле в полной неподвижности и задумчиво смотрели вдаль, чуть покачиваясь вместе с растением.
— Я думаю, — сказал один из жуков, — что в мире нет ничего выше нашего одиночества.
— Если не считать эвкалиптов, — сказал второй.
— И платанов, — подумав, добавил первый.
— И еще дерева чикле, — сказал второй.
— Дерева чикле?
— Да, — повторил второй, — дерева чикле, которое растет в юго-восточной части Юкатана.
— Пожалуй, — согласился первый, — но уж этот гнилой пенек на соседней поляне никак не выше нашего одиночества.
— Это точно, — сказал второй.
Красные жуки опять задумчиво уставились вдаль.
— Что нового в твоих снах? — спросил через несколько минут первый.
— Много чего, — сказал второй. — Вот сегодня, например, я обнаружил далекий и очень странный мир, откуда нас тоже кто-то увидел.
— Неужели? — спросил первый.
— Да, — ответил второй. — Но тот, кто нас увидел, принял нас за две красные лампы на вершине горы, стоящей у моря.
— И что мы сделали в твоем сне? — спросил первый.
Второй выдержал драматическую паузу.
— Мы светились, — сказал он с индейской торжественностью, — пока не выключили электричество.
— Да, — сказал первый, — наш дух действительно безупречен.
— Еще бы, — отозвался второй. — Но самое интересное, что тот, кто нас заметил, прилетел прямо сюда и прячется сейчас за соседним стеблем.
— В самом деле? — спросил первый.
— Конечно, — сказал второй. — Да ты ведь и сам знаешь.
— И что он собирается делать? — спросил первый.
— Он, — сказал второй, — собирается прыгнуть в колодец номер один.
— Интересно, — сказал первый, — а почему в колодец номер один? Он ведь точно так же может прыгнуть в колодец номер три.
— Да, — подумав, сказал второй, — или в колодец номер девять.
— Или в колодец номер четырнадцать, — сказал первый.
— Но лучше всего, — сказал второй, — это прыгнуть в колодец номер сорок восемь.
Митя вжался в стебель, слушая, как в нескольких метрах от него стремительно нарастают числительные, и тут ему на плечо легла чья-то рука и сильно его тряхнула.
Повернув голову, он увидел склонившегося над ним Диму. Вокруг была площадка на вершине горы, над которой поднималась мачта с двумя красными фонарями (сейчас они уже не горели), рядом стояли две складные табуретки, а сам он лежал под кустом.
— Вставай, — сказал Дима. — У нас мало времени.
Митя поднялся, помотал головой, пытаясь вспомнить только что снившийся сон, но тот уже улетучился и оставил после себя только неясное ощущение.
Дима пошел по узкой тропинке, ведущей прочь от шеста с двумя красными лампами. Митя поплелся следом, еще позевывая, но через несколько десятков метров, когда тропинка превратилась в узкий карниз, под которым не было ничего, кроме стометровой пустоты и моря, остатки сна слетели с него окончательно. Тропинка нырнула в щель между скалами, прошла под низкой каменной аркой (тут у Мити мелькнуло неясное воспоминание, связанное со сном) и вывела в небольшую расщелину, заросшую темными кустами. Митя сорвал несколько холодных ягод терновника, кинул их в рот и сразу же выплюнул, увидев яркий белый череп, лежащий под кустом. Череп был маленький и узкий, наподобие собачьего, только меньше и тоньше.
— Там, — сказал Дима, показывая на кусты.
— Что? — спросил Митя.
— Колодец.
— Какой колодец? — спросил Митя.
— Колодец, в который ты должен заглянуть.
— Зачем?
— Это единственный вход и выход, — сказал Дима.
— Куда?
— Для того чтобы на это ответить, — сказал Дима, — надо заглянуть в колодец. Сам все увидишь.
— Да что это такое?
— По-моему, — сказал Дима, — ты сам знаешь, что такое колодец.
— Знаю. Приспособление для подъема воды.
— А еще? Когда-то ты мне сам говорил про города и про колодец. Что-то о том, что города меняют, а колодец остается одним и тем же.
— Помню. Это сорок восьмая гексаграмма, — сказал Митя и опять подумал, что очень похожее только что было с ним во сне. — Она так и называется — «колодец». «Меняют города, но не меняют колодец. Ничего не утратишь, но и ничего не приобретешь. Уйдешь и придешь, но колодец останется колодцем… Если почти достигнешь воды, но не хватит веревки, и если разобьешь бадью, — несчастье!»
— Откуда это? — спросил Дима.
— «Книга перемен».
— Ты ее что, наизусть знаешь?
— Нет, — с некоторым неудовольствием признался Митя. — Просто эта гексаграмма мне пять раз выпадала.
— Как интересно. И о чем она?
— О колодце. О том, что существует некий колодец, которым можно пользоваться. Точнее, сначала им нельзя пользоваться, потому что на первой позиции в нем нет воды, на второй ее нельзя зачерпнуть, а на третьей ее некому пить. Зато потом все приходит в норму. Если я не путаю. А смысл примерно в том, что мы носим в себе источник всего, что только может быть, но поскольку первая, вторая и третья позиции символизируют недостаточно высокие уровни развития, то на них этот источник еще не доступен. Вообще, символично, что к этой гексаграмме мы переходим от гексаграммы «истощение», на пятой позиции которой…
— Хватит, — перебил Дима. — Помнишь песню, что мы слышали на набережной? Насчет того, где найти себя? Та, кто ее пела, совершенно не понимала, о чем она поет. И ты точно так же не понимаешь, о чем сейчас говоришь. А чтобы понять, что ты только что сказал, тебе надо заглянуть в колодец.
— А если я не пойду?
— Не пойти ты просто не можешь.
— Почему? — спросил Митя.
Дима посмотрел на его руки. Митя проследил за взглядом, уставился на свои ладони и понял, что они больше не светятся в темноте. Еще несколько минут назад, когда они начинали дорогу к этому месту, ладони сияли — не таким ярким, как вчера, но чистым и ясным голубым светом.
— Вот именно поэтому, — сказал Дима. — Иначе все, что ты понял, исчезнет. И в лучшем случае ты успеешь написать еще пару стихотворных посланий совершенно не нуждающимся в них комарам.
— Меня иногда поражает твой апломб, — сказал Митя.
Дима развернул его на месте и толкнул в спину.
Кусты были густыми и колючими; прикрывая пальцами глаза, Митя сделал несколько шагов, поскользнулся и полетел вниз.
Он падал спиной вперед, хватаясь руками за рыхлые стены, падал очень долго, но вместо того, чтобы упасть на дно, впал в задумчивость.
Время не то исчезло, не то растянулось — все, что он видел, менялось не меняясь, каким-то образом постоянно оказываясь новым, а его пальцы все пытались уцепиться за тот же самый участок стены, что и в начале падения. Как и вчера, он чувствовал, что смотрит на что-то странное, что-то такое, на что не смотрел никогда в жизни и вместе с тем смотрел всегда. Когда он попытался понять, что он видит, и найти в своей памяти нечто похожее, ему вспомнился обрывок виденного по телевизору фильма, где несколько ученых в белых халатах были заняты очень странным делом — вырезали из картона круги с небольшими выступами и насаживали их на сверкающий металлический штырь, словно чеки в магазине; картонные круги становились все меньше и меньше, и в конце концов на штыре оказалась человеческая голова, составленная из тонких листов картона; ее обмазали синим пластилином, и на этом фильм кончился.
То, что видел Митя, больше всего напоминало эти картонные круги: последним, самым верхним кругом был испуг от падения в колодец, предпоследним — опасение, что колючая ветка куста хлестнет по глазам, до этого была досада, что так быстро исчез приснившийся мир, где на длинной травинке беседовали два красных жука; еще раньше — страх перед летучей мышью, наслаждение полетом над залитыми луной камнями, озадаченность непонятным вопросом Димы, тоска от стука доминошных костей над пустой набережной и от того, главным образом, что в собственной голове сразу стала видна компания внутренних доминошников, и так — ниже и ниже, за один миг — сквозь всю жизнь, сквозь все сплющившиеся и затвердевшие чувства, которые он когда-либо испытал.
Сначала Митя решил, что видит самого себя, но сразу же понял: все находящееся в колодце на самом деле не имеет к нему никакого отношения. Он не был этим колодцем, он был тем, кто падал в него, одновременно оставаясь на месте. Может быть, он был пластилином, скрепляющим тончайшие слои наложенных друг на друга чувств. Но главным было другое. Пройдя сквозь бесчисленные снимки жизни к точке рождения, оказавшись в ней и заглянув еще глубже, чтобы увидеть начало, он понял, что смотрит в бесконечность.