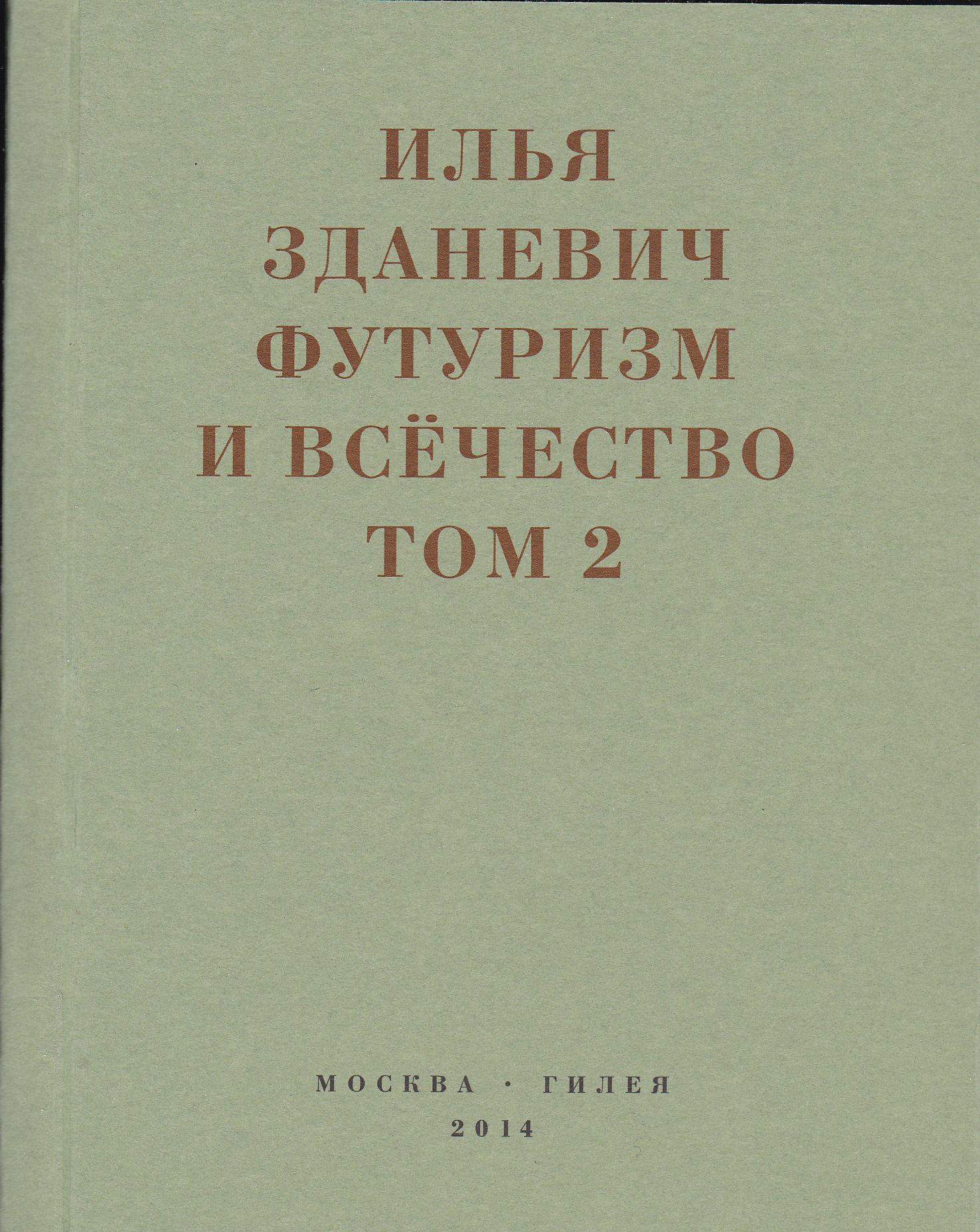и раскрытого носит принципиальный характер. Как в стамбульской лавке, где самые дорогие вещи находятся не на витрине, а в тайном помещении, самое красивое и ценное должно быть тайным, но невозможно не раскрыть и не показать это тайное. Великолепно белое платье снега, покрывающего землю, но невозможно не шагать по нему, тем самым разрушая дивную картину. У человека бессознательное является самым тайным и интимным углом ума, но оно распространено везде под маской мифа, и только благодаря тайному языку зауми можно его поймать и попытаться понять. Диалектика тайного и раскрытого в особенности лежит в основе издательской практики Ильязда, которой она задает свои правила. О поэте XVI в. Адриане де Монлюке, неизвестные произведения которого Ильязд нашел и издал, он написал, что “лучшая судьба поэта – быть забытым”. Но в то же время он издал его и, значит, вернул к какой-то известности… однако, благодаря крохотному тиражу и необычному характеру издания (с великолепными макетом Ильязда и иллюстрациями Пикассо), Ильязд был уверен, что Монлюк будет защищен “от безобразия исторического признания” [4].
Диалектика тайного и раскрытого имеет и что-то общее с астрологической тематикой Ильязда. Известно, что он интересовался нумерологией и астрологией, в которые он, скорее всего, не верил, но в которых нашел могучую поэтическую силу. В его дневниках 1920-1930-х гг. нередко встречаются астрологические данные, схемы сочетаний звезд и т. п. В “Философии” астрология становится центральным мотивом с первостепенным значением на уровне фабулы. В остальных его произведениях звезды непременно сопутствуют скитаниям человека по Земле. Высшая точка страданий Антихриста-Лаврентия в “Восхищении” сопровождается появлением кометы. А сборник сонетов “Афат” (1940) с офортами Пикассо – поэтическая хроника невозможной любви, при которой безнадежный поэт входит в разговор со звездами, взирающими на него с небес. Небо везде одинаково, “чужих” небес нет, существует только одно небо, и человек, смотрящий на звезды, как бы входит в тайный сговор со всеми людьми, глядящими одновременно на небо, несмотря на войны, изгнания и разные страны. Здесь, как и в “Философии”, астрология ассоциируется у Ильязда с восточным вдохновением (заглавие книги в переводе с арабского означает “беда” или “красивая женщина с неудачной любовью”).
В книге “Максимилиана, или Незаконная астрономическая практика” этого восточного элемента нет. В ней воспроизведены результаты наблюдений немецкого астронома Эрнста Вильгельма Темпеля, который в 1861 г. без помощи какой-либо аппаратуры открыл новую звезду, названную им Максимилианой. Академические власти не захотели принять его открытие – вначале они заявили, что такой звезды не существует, а затем переименовали ее. Эта печальная судьба, которая чем-то напоминала судьбу Пиросмани и соединяла тему подлинного творчества с мотивом звезд, не могла не интересовать Ильязда. Он заказал иллюстрации своему другу немецкому сюрреалисту Максу Эрнсту, добавив элемент своей вечной страсти к игре слов (имя художника является сокращением имени Максимилиан, а фамилия Эрнст – анаграмма немецкого слова “stern”, то есть “звезда”). Эта великолепная книга является, пожалуй, абсолютной вершиной книжного искусства XX в.
Противоположность неба земле – одна из принципиальных идей Ильязда. Уже со времен лозунга “Башмак прекраснее Венеры Милосской” Зданевич нашел в освобождении от земли достойное место поэзии. Как в старом балаганчике, где наверху показывался небесный мир бога и святых, а внизу – земная чернь, вся его заумная пенталогия построена по линии раздвоения мира, воплощенного в двух языковых степенях: хозяин балаганчика изъясняется на искаженном русском языке, тогда как “чистая” заумь предназначена для речи персонажей. Сам язык говорит одно и выражает другое, бессознательное, небесное.
Двойная структура заметна и в прозе Ильязда. Войдя в сферу фабулы, она приводит к сгущению действия вокруг двойных персонажей, к изображению, так сказать, двойных ситуаций. В “Восхищении” тема двойника концентрируется вокруг Лаврентия. Герой, как в зеркале, отражается в других действующих лицах, которые оказывают на него влияние и постепенно лишают его свободы. Похожее происходит в “Философии” с персонажем Ильяздом: и Алемдар, и Озилио, и Яблочков с их всевозможными метаморфозами чуть ли не приводят его к сумасшествию. Герои Зданевича при всем их внешнем могуществе – слабые отражения в зеркалах других. Уже в “аслааблИчьях” они живут только в метаморфозах, не имея собственных тел и мыслей. Это и есть сюжет самой абстрактной из его заумных драм – “згА Якабы”.
Кажется, эту слабость, эту необходимость существовать в зеркальном существе другого человека Ильязд четко испытывал сам. Примером значения для него таких зеркальных отражений себя в других является настоящая близость, естественная дружба, которая связывала писателя с Пабло Пикассо. Она питалась у Ильязда, пожалуй, и чувством какой-то общности судеб, и ощущением сходной непонятности действительного значения для искусства, несмотря на огромную славу испанского художника. Уже в 1922 г. Ильязд увидел в Пикассо настоящего “всёка”, единственного, кроме него, явного сторонника этого течения [5]. И этим также, возможно, объясняется такое постоянство их диалога, благодаря которому существует столько прекрасных книг.
Когда в 1971 г. он испытал потребность еще раз выразить в лирических стихах свою ностальгию по минувшим дням и умершим друзьям, он выбрал редкостную форму “зеркального бустрофедона”: каждое стихотворение – зеркало его воспоминания и каждый стих отражается в своем заумном перевертне. Здесь мотив зеркала соединяется с высоко ценимыми Ильяздом циклическими формами (к примеру, он написал и опубликовал в 1961 г. венок сонетов “Приговор безмолвный”), в которых будущее возвращается к прошлому.
Ильязд умер в Париже 24 декабря 1975 г., в ночь на Рождество, в такую же ночь, как Ивлита в “Восхищении”. Он захотел приготовить чай, взял чайник, пошел в крохотную кухню двухкомнатной мастерской на улице Мазарини – и умер. Чайник упал на пол и разбился. Услышав звук, жена Ильязда бросилась в кухню и нашла мужа, стоящего как бы прислонившимся спиной к стенке. Его уже не было, а он все еще стоял. Так кончилась жизнь великого футуриста, ставшего квазидадаистом, потом издателем самих красивых и самих ценных художественных книг своего времени. Рассказав об этой необычной смерти, его вдова Элен, всецело преданная его памяти, заключила с нежной улыбкой: “Это была смерть в духе Зда”.
Действительно, существует некий “дух Зда” – именно Зда, как его часто именовали те из парижских его друзей, кто знал, что под псевдонимом Ильязд скрывается некий Илья Зданевич, – то есть что-то близкое к “духу Дада”, но личное, своеобразное, относящееся только к нему и вместе с тем содержащее в себе что-то универсальное. Черный юмор подсказывает нам, по какому пути шел Ильязд, каков был дух Зда. Быть таким, какого не предполагают. Быть там, где его не ждут. Ждешь футуриста, модерниста, буйного нигилиста, дилетанта – появляется культурный