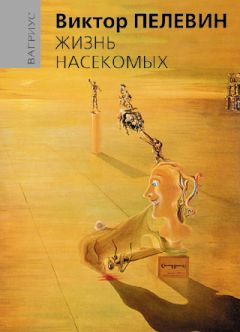Марина уронила голову на сено и в голос зарыдала. Она ожидала, что через несколько минут Наташа опомнится и приползет извиняться, и даже решила не извинять ее сразу, а некоторое время помучить, но вдруг услышала звяканье врезающегося в землю совка.
— Наташа, — закричала она, чудовищным усилием поворачивая голову, — что ты делаешь!
— Ничего, — ответила Наташа, — наружу выбираюсь.
— Так вон ведь выход! Ты что, хочешь все разрушить, что мы с отцом построили?
Наташа не ответила — она продолжала сосредоточенно копать и, какие бы материнские проклятия ни обрушивала на ее голову Марина, даже не оборачивалась. Тогда Марина, как могла, приблизила голову к черной дыре в стене и завопила:
— Помогите! Люди добрые! Милиция!
Но ответом ей было только далекое завывание ледяного ветра.
— Спасите! — опять заорала Марина.
— Да чего ты орешь, — тихо сказала из-под потолка Наташа, — во-первых, добрых людей там нет, а во-вторых, все равно никто не услышит.
Марина поняла, что дочь права, и впала в оцепенение. Под потолком мерно позвякивал совок, так продолжалось час или два, а потом в камеру упал солнечный луч и ворвался полный забытых запахов свежий воздух; Марина вдохнула его и неожиданно поняла, что тот мир, который она считала навсегда ушедшим в прошлое вместе с собственной юностью, на самом деле совсем рядом и там началась осень, но еще долго будет тепло и сухо.
— Пока, мама, — сказала Наташа.
«Улетает», — поняла наконец Марина и закричала:
— Наташа! Сумку хоть возьми!
— Спасибо! — крикнула сверху Наташа. — Я взяла!
Она чем-то прикрыла прорытую наверх дыру, и в камере опять стало темно и холодно, но тех нескольких секунд, пока светило солнце, хватило Марине, чтобы вспомнить, как все было на самом деле в тот далекий полдень, когда она шла по набережной и жизнь тысячью тихих голосов, доносящихся от моря, из шуршащей листвы, с неба и из-за горизонта, обещала ей что-то чудесное.
Марина поглядела на стопку газет и с грустью поняла, что это все, что у нее осталось, — точнее, все, что осталось для нее у жизни. Ее обида на дочь прошла, и единственное, чего она хотела, — это чтобы Наташе повезло на набережной больше, чем ей. Марина знала, что дочь еще вернется, но знала и то, что теперь, как бы близко к ней ни оказалась Наташа, между ними всегда будет тонкая, но непрозрачная стена — словно то пространство, где они когда-то играли в магаданские концерты, вдруг разделила доходящая до потолка комнаты глухая желтая ширма.
— …избавиться от ощущения, — говорил Митя, стоя с закрытыми глазами в центре площадки под шестом маяка, — что он копает крыльями пустоту, и из последних сил удерживая себя от догадки, что всю предшествовавшую жизнь он занимался именно этим. Пока вместе с сотнями других цикад он летел к далекой горе, второй раз в жизни видя мир таким, как он есть, вокруг стемнело, и ему стало казаться, что он потерял дорогу — хотя куда именно он летит, он твердо не знал, — но тут он вспомнил, что стоит между черными кустами терновника и торчащими из земли выветренными скалами причудливой формы, которые с того места, где он находился, казались просто участками неба без звезд…
Он несколько раз моргнул и слегка надавил на веки пальцами. За ними разлилось слабое голубоватое сияние, но яркой точки, которая сияла там несколько минут назад, уже не было.
— Все. Больше ничего не вижу, — сказал он. — И сколько все это продолжалось?
Дима пожал плечами.
— Хотя да, — сказал Митя. — Понятно.
— Цикады — наши близкие родственники, — сказал Дима. — Но они живут в совершенно другом мире. Я бы сказал, что это подземные мотыльки. Там все так же, как у нас, но совсем нет света. Поэтому, когда они решают, куда им лететь, им приходится верить остальным на слово.
Он повернулся и пошел вверх по тропинке. Митя пошел следом, и через минуту или две они вышли на плоскую площадку между скалами, один край которой обрывался в пустоту. Отсюда было видно море с широкой лунной дорогой — даже не дорогой, а целой взлетно-посадочной полосой, — и еще было видно дрожащее сияние на берегу.
— Странно, — сказал Митя. — Как будто все то, к чему мы с таким трудом пытаемся всю жизнь вернуться, на самом деле никуда и не исчезало. Как будто кто-то завязывает нам глаза, и мы перестаем это видеть.
— Хочешь узнать, кто?
— Хочу, — сказал Митя.
— Это хорошо, что ты хочешь, — сказал Дима, — потому что в любом случае придется.
Митя вздрогнул.
— Что значит придется?
— Видишь ли, — сказал Дима, — своими недавними действиями ты растревожил одно очень могущественное существо. Ему все это ужасно не понравилось. И сейчас оно явится за тобой.
— А какое ему до меня дело? — спросил Митя.
— Оно считает, что ты находишься в его полной власти. Принадлежишь ему. А то, что ты пытаешься делать, этой власти угрожает. И это существо нападет на тебя с минуты на минуту.
— Кто это?
— Труп, — сказал Дима, как нечто само собой разумеющееся.
— Чей труп?
— Твой, — сказал Дима, — чей же еще.
— Ты хочешь сказать, что я умру?
— В каком-то смысле, — ответил Дима. — Когда я говорю «труп», я имею в виду, что тебя ждет тот, кто сейчас живет вместо тебя. На мой взгляд, самое худшее, что с тобой может произойти, — это то, что он и дальше будет жить вместо тебя. А если умрет он, вместо него будешь жить ты.
— Кто это живет вместо меня? — спросил Митя. — И как труп может умереть?
— Хорошо, — сказал Дима, — не живет, а мертвеет. Это все слова. Неважно. Все равно бесполезно говорить. Иди и сам все увидишь.
— А ты? — спросил Митя.
— С ним можешь встретиться только ты сам, — сказал Дима. — И все, что случится дальше, тоже зависит только от тебя.
— Опять в кусты идти? — спросил Митя. — Сколько можно.
— Я не знаю, где он тебя найдет. Но он уже здесь. Совсем рядом.
— Где? — испуганно спросил Митя.
Дима засмеялся и не ответил. Он подошел к краю площадки, почти к самому обрыву в море, и отвернулся, словно не желая иметь никакого отношения к тому, что происходит за его спиной.
Митя огляделся по сторонам. Вокруг были скалы самых разных форм; на некоторых из них росли пучки травы, которую шевелил ветер, из-за чего казалось, что шевелятся сами камни. Застывшая фигура Димы казалась со спины темным каменным выступом, словно он превратился в одну из скал.
Больше на площадке ничего не было. Митя подошел к началу тропинки, по которой они только что прошли, и, цепляясь за кусты и камни, стал спускаться вниз. Прошлый раз он шел за Димой и даже не заметил, насколько трудно здесь идти, — словно тогда вокруг было светлее. Теперь, когда Луну закрыл каменный гребень, приходилось нашаривать ногой следующий камень и ощупью находить ветки, чтобы схватиться за них. Через несколько метров Мите показалось, что он завис в темной пустоте, держась за несколько непонятно откуда взявшихся в ней каменных выступов, и нет никакой гарантии, что впереди окажется хоть какая-то опора. Он замер на месте.
«А куда я иду? — подумал он. — И зачем?»
Он закрыл глаза и попытался прислушаться к своим ощущениям и мыслям, но их не было. Было просто темно, прохладно и тихо. Можно было продолжить спуск вниз, а можно было вернуться на площадку, где остался Дима; казалось, что между этими двумя действиями нет никакой разницы.
Митя попытался сделать еще один шаг, и из-под его подошвы вывернулся камень — он чуть не покатился вслед за этим камнем, но в последний момент успел схватиться за усеянную шипами ветку, которая глубоко расцарапала ему кожу на ладони. Камень несколько раз стукнулся о скалы, с шорохом врезался в листву, и опять стало тихо.
«Что же со мной происходит? — подумал Митя, облизывая кровоточащую ладонь. — Как это оказалось, что я стою в полной темноте, в непонятном месте, и дожидаюсь собственного трупа? Это что, я к свету летел, а прилетел вот сюда? Ведь я же совсем другого искал. Может, я и сам не знаю, чего, но никак не этого, точно».
Подул ветер, и внизу зашуршали невидимые листья.
«Сейчас пойду и скажу ему, что с меня хватит… Кто он такой вообще и откуда он взялся? С другой стороны, конечно, бессмысленный вопрос… Оттуда же, откуда и я. И говорит он тоже правильно. Но ведь я это и без него всегда знал. И еще много другого знал, кстати… Куда только это делось…»
Митя попытался вспомнить это другое, и перед ним, почти как в колодце, промелькнуло несколько отрывистых картин, вместе похожих на фильм, склеенный из разных слайдов. Оказалось, что лучшее связано с очень простым, таким, о чем никому и не расскажешь. Это были моменты, когда жизнь неожиданно приобретала смысл и становилось ясно, что она на самом деле никогда его не теряла, а терял его сам Митя. Но причина того, что этот смысл становился виден опять, была непонятна, а картинки на сменяющихся в его памяти слайдах были самыми обычными — например, проходящие по ночному потолку полосы света, похожие на лучи зенитных прожекторов, которые никак не могут поймать люстру, или вид из поезда на длинное вечернее небо, уходящее в просеку за пыльным окном, или несколько неотшлифованных бутылочных изумрудов на ладони. Но странное и невыразимое знание, связанное со всем этим, давно исчезло, а то, что осталось в памяти, было больше всего похоже на сохранившиеся фантики от конфет, съеденных каким-то существом, уже давно живущим в нем, постоянно и незаметно присутствующим в любой мысли (кажется, среди мыслей оно и жило), но все время прячущимся от прямого взгляда.