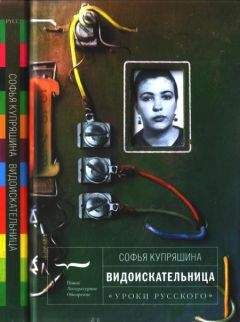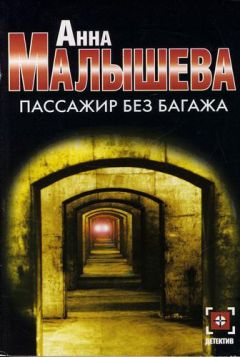Во мне давно уже доминировали звериные инстинкты: хотелось трахаться и хотелось есть, и в очередной день, нанизанный хуй знает на что, я просто перевела замок на «собачку», прикрыла дверь, вышла из квартиры и быстренько склеила мальчика у соседнего дома. Сговорились за 50 баксов. Он жарил мне курицу в микроволновой печи, поил «Абсолютом», добивался телефона. Но я быстро свинтила оттуда, удовлетворенная во всех отношениях, кроме одного: мне страшно хотелось увидеть эту уголовную рожу, прижаться к нему, исцеловать, слушать, как он говорит: «Санька, не борзей» — постирать ему что-нибудь, приготовить, насмешить, снова слушать его издевки, а потом извинительные, жуткие истории о том, как он мучился на зоне. Я не могла ничего с собой поделать, и снова пошла в нашу хату.
Он сидел в темноте, в изменившейся почему-то нашей комнате (я не поняла по-пьяни, в чем дело) и курил.
— Что ж ты наделала, сучара! Кто разрешил выходить?! — первое, что я услышала.
Нас обчистили. Не было телевизора, видика и компьютера. Все перевернуто на хрен. Я попятилась, но он быстро загородил дверь. И началось наше последнее свидание. Рифленые подошвы. Изшрамленные кулаки. Красивые слова — в бога и в душу. Он вырубил меня довольно быстро, поскольку я была уже в кондиции.
А дальше — очнулась, конечно, куда ж я денусь, глубокой ночью, на лестничной площадке. На мне лежала моя сумка со шмотками, баксы были при мне, а жизни при мне не было. Я вынула шнурки из ботинок, сделала кое-как петлю, спустилась на этаж ниже и прицепила ее к верхнему шпингалету. На улице пели залихватские песни.
Выбросили ежа
С десятого этажа
Я чуть-чуть постояла на подоконнике и резко спрыгнула, уже понимая (и надеясь), что все это барахло порвется. Мне казалось, что я лежу на дне моря и рву на шее водоросли. Не знаю, как я выглядела, когда рвала шнурки и пыталась продышаться — дикое, должно быть, зрелище. Очень сильно захотелось жить сучаре: хоть как-нибудь, хоть где-нибудь…
А на дворе был покой: горело несколько разноцветных окон — еще сонно, вполсилы, мягко, тепло. Я заглядывала в эти окна, и видела пассивные картины с дальними метелями, афиши с автографами, железные банки с водой и воском; все это было тускло, имело множество теней и оттенков; были предметы с запахами винными, телесными, смертными, заключенные в ветхую раму, где, перечеркивая друг друга, постились провода, снежные потоки, далекие мириады домов, труб, антенн и тусклых осколочных окон без штор, переложенных съестными свертками, имеющих притороченную к форточке бутыль шампанского в сетке, окон минорного ночного действа, дверных рельефных отделов, брызжущих окнами, снова окнами, похожими на рамы картин и камеры тюрем.
Я приехала в Теплый дом еще в темноте. Был седьмой час утра. Гудела колонка. Было ослепительно, жарко, пахло чистым бельем. Брат и тетка спали. Я вяло представила себе ее подъебки по поводу моей физиономии, еле слышно обрадовалась его предстоящим карабканьям по моим больным частям тела, положила на стол пакет с книжкой «Грибы в лесу и на столе» и набором «динозавров» и стала изучать кастрюли. Мне было все равно. Я снова стояла в теплой микроскопической кухне: на этот раз с холодной куриной ногой в руке.
В Доме Герцена один молочный вегетарианец — филолог с головенкой китайца — «…» — лицейская сволочь, разрешенная большевиками для пользы науки, сторожит в специальном музее веревку удавленника Сережи Есенина.
О. Мандельштам «Четвертая проза»
Ловилий Униформович, велите подавать!
Тверской бульвар есть непереносимость пространства и несмыкание его. Сцена непереносимости. Замещение солей на что-то другое.
Обломки дыма.
Меня больше нет.
(надпись на двери мелом)
Салют в честь дня.
Скоро я смогу выебать себя в рот.
(из дневника гимнаста)
Или рассказывать свои сны: утром, в тумане, сонным мудицам, когда в синейшее окно впадает лист и не заутрело еща.
Подморозило, бля. Боты стоптались.
Спижжено: стакан мудачьего кагора
помидор гнилой
грызена корка
крем для ног «Эффект» лежит вместе с сапожными щетками и кремом для сапог. Это загадка.
Тверской бульвар есть теория возмущенного движения. Возмущение — жестовая орфограмма. Возмущение в движении. Радиокомпозиция «Я гоняюсь, как мудак, за туманом» (в приложении). Достигал — Нахтигалль. Золото стрелки. Твердить вердикт. Застарелый мастер Зуб (молчат, притырки; догонки хотят). Полное пространство. Подлое. Больные дебаркадеры (и добавить: декабря). Графика мертва. Черно-белого текста. Сыновняя улица Мамыш-Улы.
Надо облюбить это пространство. Но смогу ли я вспомнить что-то кроме холода?
Мед и мел. Медимел — фамилия и фамилия Олинсон.
Тверской бульвар есть гармональный укол в матку.
крик виз
краг визг
вонз. игла —
потревожила и ушла
обратный путь
падает грудь
Пустозерск, Белосток
«Голубые края серебра»
A question:
— Скажите, я доеду на этом троллейбусе?
Reply:
— Куда? — Ну, это… как его… к метро… — Какому? — Ну…
Внезапно оборачиваюсь, хватаю ветку дерева, велю, куда положить потерянные ключи, со всей этой занудной сибирской обстоятельностью описываю город К.
На философии у меня встал клитор и необычайно разросся, и лектор всю лекцию простоял у моего стула, прикованный мощным сексуальным потоком. Тфу, тфу. Я стала вспоминать все подряд: беременную женщину, изнасилованную мною два года назад в туалете института и ее ушастого мелкого мужа, боявшегося мне перечить, парты, исписанные моими нецензурными призывами, и вот я снова такая же, со своей беззаветной и беззащитной эрекцией, и уже пьяная умею и писать, и говорю, только падаю с лестницы, волос не укладываю, курю, где попало, а дома хорошо — молоко. Новый метод подразумевает полную полноту мягкой жизни, без подлого циничного нахальства и всей атрибутики нечистот. Не хочу боле писать про плохое! Ура! И не буду про интимные отношения!
кутафаНадо было тащиться за учительницей через весь город и завлекать ее. Опозданием на экзамен нельзя было завлечь: этим можно было снять остуду; надо было упомянуть и выделить общее:
вскользь — о предмете как о точной дисциплине; о запущенном неврозе другого жанра, который не письменный, а риторический; о допинге; доверительный сленг — мой голос ложился на ее (голос) и был как глосса: чуть — хрип — это кофе — как крем в ее ротовые морщины; небольшие глаза китайской керамики.
Кутафа, обернись! Насчет того, что кто-то тонул в чьих-то глазах, но мягко. Кто ее так наморщил? Дикие туманы царствования. И, сгорбившись, отставив сапожок, ослабнув, вся вытянулась в сигарету (длинными пальцами мешала табак, травы, порошок: зрачки залили глаза).
— Отчего ты темная?
— От коридора.
Она слушала, как дети и мужчины — занятное, но непонятно от кого: растерянно. Ей нравилось, что я на ударении смазываюсь голосово, что я легко управляю своими обертонами. У меня получалось смешно: об универсализме в античности, о тождестве философии и математики, «взаимопроникновение всего во все», «сопрячь интеграл и ветер», о пушкинских неприличиях, и она уже совсем подумала, что мы на кофейном диване, и очнулась, и крикнула, и пожелала удачи, и с тех пор УЛЫБАЛАСЬ МНЕ ВСЕГДА.
— Меня тратили в школе, как хотели: на зеркала, на краски, ручки, и, чтобы мое личностное начало оставили в покое, я ушла в секс: тогда все так делали. 10 лет тюрьмы. Я насчет венозных дел никогда не славилась: я все глотаю в себя. Одной рукой надо было поддерживать ей голову, второй провести по горлу.
— Так ты сидела в Кутафьей башне?! — Пращурка.
— А я был тогда стрельцом: татарин, кумыс в сапогах, волосы повсюду, и я взял тебя в полон. А ты все плакала сначала, а потом поднялась войной. Мы, татары, любим лизаться. Осквернять.
Институт опустел. Мы расположились на стенде (перевернутом), все было в табаке, в таблетках, оказалось, у нее маленький термосок со снадобьем, а в руку колет промедол. Кожа ног ее была нежная, темная, как у Флоренского. Мы выкурили еще по косяку, привалившись друг к другу, затем я снова лезла носом к ней под юбку, но пришел ректор дрочить в здание бухгалтерии и высших курсов и с дикими воплями выгнал нас. Мы шли на наб'режной, об'явшись. Она потеряла работу. Я — вовсе все. Зато мы жили теперь на вокзале и еблись с отъезжающими солдатами, которые уже успели сильно запачкаться и отупеть во время забастовки.
Тверской бульвар — есть. Его надо обогнуть, вытолкнув мраморное яйцо наружу.