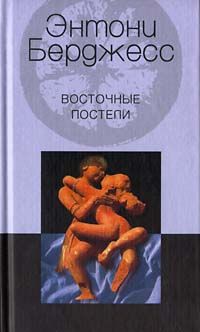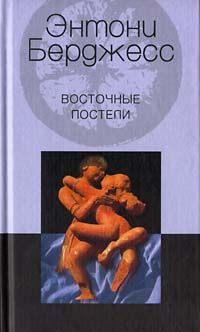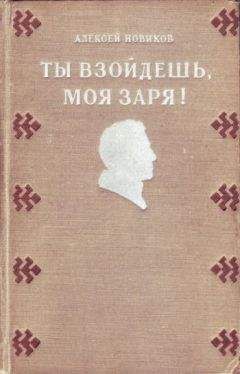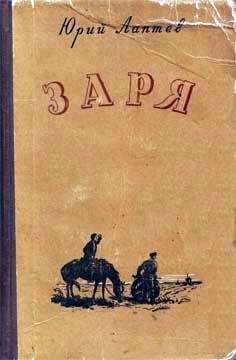Река была широкая, серебряная, солнце весело на ней плясало. Но джунгли по левому и по правому борту источали силу сильней солнечной, пахли так же сильно, как горячее дерево лодки или разогретая солнцем река. В конечном счете именно богам джунглей малайцы сохранят наибольшую верность. Солнце ислама, хитро замаскированное под лунный серп, предназначено лишь для расчищенных участков, означающих города с рефрижераторами и мечетями, где крик муэдзина сливается с музыкой в барах. Города начинают теперь упиваться суетными мечтами о полученной независимости — яркая свежая краска для приезжающих, новый стадион и роскошный отель. Один арабский философ-теолог сказал, что ислам в городах загнивает. Лишь когда гибель ислама приведет к гибели городов, когда вновь воцарится пустыня с непрочными племенами в палатках, только тогда возникнет возможность для обновления веры. Но здесь нет ни пустыни, ни власти солнца и оазиса. Кроме джунглей, здесь не во что верить. Это дом, это реальность. Краббе с каким-то страхом, смешанным с умиротвореньем, глядел на бесконечную перспективу взлетавших ввысь стволов, лиан, ярких цветов. Пассажиры лодки мчались к хулу, к верховью, к истокам всего, где нет притворства и обмана.
Приспособились к временно постоянной речной жизни, сложилось непрочное общество. Китаец, помощник управляющего, с широкой, неискренне зубастой улыбкой заговорил с Краббе, осведомился:
— Не посчастливилось упасть в пьяном виде, мистер Краббе? — Вопрос оскорбительным не был, вполне китайский, циничный. Тамил, медбрат из больницы, захлебываясь, затараторил, демонстрируя, как товар, зубы:
— Муссонные дренажные канавы очень коварные. Можно ногу сломать, когда не можешь идти по прямой. — Оба улыбались и улыбались в ожидании подтверждения.
— Меня скорпион укусил, — объявил Краббе, — абсолютно трезвого. — Раздался вежливый смех шестидесяти четырех зубов. — Теперь я Косолапый Тиран. — Зубы сочувственно скрылись. — Но не убивал собственного отца и не женился на своей матери [27].
— Женился на своей матери, — засмеялся китаец. — Очень хорошо.
— Женился на моей матери, — вдруг сказал Вайтилингам. Эти первые свои за время поездки слова он выговорил без запинки на согласных. Вновь заставил всех замолчать и добавил для равновесия: — Убил моего отца.
— Японцы убили моего отца, — улыбнулся китаец. — Облили бензином, а потом бросили зажженную спичку. — Он сдержанно посмеялся. — Меня заставили смотреть. Не очень хорошие люди.
— История, — сказал Краббе, наугад заглушая словами боль. — Лучше всего все это записать в книги и позабыть. Книга — нечто вроде унитаза. Мы должны смыть прошлое, или не сможем жить в настоящем. Надо поразить прошлое, уничтожить. — Но при этом, утратив контроль над собой из-за боли в ноге, он вернулся в собственное прошлое и произносил слова на северный лад, как в детстве.
— Извините, — сказал тамил-медбрат. — Вы это про каких паразитов? Всех паразитов, конечно, надо уничтожить. Я не вполне понял смысл вашего утверждения.
— Это просто к слову, — сказал Краббе. — Никакого смысла.
Цвет сменился теперь на малайский, на мягкий малайский коричневый, так как заговорил один из малайцев неопределенных занятий, сидевший на скамейке возле планшира, держась за борт лодки вытянутыми коричневыми руками.
— Аллах, — сказал он, — все располагает. Чайная чашка, которую я разбил в детстве, и проигрыш моего отца в лотерею, когда не сошелся всего один номер. Было это через два года после того, как я разбил чайную чашку. Я обвинил младшего брата в разбитой чашке, и вышло справедливо, так как через четыре года, — через два после проигрыша отца в лотерею, — он сам разбил чайную чашку. Тогда у нас было много чайных чашек, а мать моя никогда особенно не умела считать. Поэтому он избежал наказания, в своем роде справедливо, так как был уже несправедливо наказан. — И малаец продемонстрировал малайские зубы, золотые кусочки, блеснувшие на речном солнце; зубы не такие хорошие, как у других.
— Но лотерейный билет, — сказал тамил по-малайски. — Я не совсем понял смысл.
— Аллах все располагает, — повторил малаец, торжественно спрятав зубы. — Будь моему отцу суждено выиграть, он бы выиграл. Нечего было ему рассуждать насчет несправедливости. — Он улыбнулся вокруг, а потом закрыл рот до конца путешествия, дав своим спутникам в лодке много пищи для размышлений. Разбитая чайная чашка звякала у них в умах, номер, на который ошибся отец малайца, глухо вспыхивал и гас. Река тем временем несколько сузилась, зеленые тела, руки и ноги джунглей-двойняшек сближались.
— Но, несмотря на неудачную попытку вашего отца разбогатеть, — заметил китаец, помощник управляющего, — чайных чашек у вас все равно было больше, чем вы могли сосчитать.
Малаец кивнул с улыбкой, ничего не сказав. Впереди по правому борту джунгли начинали редеть, превращаться в поросль, потом пошел регулярный лес каучуковых деревьев. Краббе вспомнил английского политика с мистическим уклоном, который, пробыв два дня в Малайе, написал в воскресной газете, что джунгли симметричны и аккуратны, как подстриженный по британским правилам сад. Он думал о многих других визитерах в пляжных костюмах, которые в розовом тумане гостеприимного виски считали малайцев китайцами, мечети — англиканскими церквами, плантации — джунглями, чистые тарелки с аккуратными канапе — приятным и безопасным заказом. Но в хулу, то есть в верховье реки, две половинки джунглей сливались воедино, там ошибиться уже невозможно. Джунгли произносили «ОМ», подобно малайскому мастеру театра теней, — единый и неделимый конечный нуомен.
Лодка подошла к причалу поместья Рамбутан, где высадились китаец и тамил, улыбаясь, помахав руками. За роскошной лужайкой величественно сверкала стеклом группа бунгало, за ними опять каучук и шеренги кули. Лодка направилась на середину реки с Краббе, с молчавшим Вайтилингамом, с малайцем, молчавшим за сигаретами, с болтавшими лодочниками. Следующая остановка — поместье Дарьян.
Через милю по продолжавшей сужаться реке Краббе отпраздновал некоторое облегчение боли, сказав несколько вежливых слов Вайтилингаму, полюбопытствовав, зачем он едет на плантацию в верховьях реки. Вайтилингам выдавил из пульсирующей гортани одно слово:
— Животные.
— Скот осматривать? — Вайтилингам не кивнул. — А я, — сказал Краббе, — еду повидаться с семьей тамильского учителя, которого убили. Может, вы его знали. Он руководил школой в поместье.
Вайтилингам оглянулся на Краббе и кивнул, что, кажется, знал. Вымолвил имя:
— Югам. — Добавил: — Нехороший человек. Пьяница.
— Больше он никогда пить не будет.
Больше Вайтилингам ничего не сказал. Вскоре прибыли к последнему на реке аванпосту индустрии и цивилизации. Лужайки здесь были еще шире, чем в поместье Рамбутан, садовники-тамилы трудились со шлангами над цветочными клумбами. Дом плантатора представлял собой не простое бунгало. Он стоял на высоких столбах, прикрыв в тени под брюхом бронированный автомобиль для объезда многочисленных квадратных миль каучука, взлетал ввысь на два этажа к саду на крыше с полосатыми тентами. Здесь, в отчаянии, одинокий управляющий пил любое утешение, которое могла доставить лодка и охладить частная электростанция. Ведь мало кто рисковал теперь на воскресное путешествие ради грандиозных завтраков с кэрри, вечеринок с джином и танцами, купания под луной в бассейне с ежедневно менявшейся водой, окруженном баньянами и дождевыми деревьями, бугенвиллеей и гибискусом, перед горделивым особняком. Не жизнь, а пытка, — загнанные отверженному под ногти иглы, — неадекватно смягчаемая гулом его холодильников, рокотом множества вентиляторов, громким преданным звуком проигрывателя. Он много пил до обеда, обед с массой блюд подавали в ранние утренние часы, рыба и баранина пересушивались, уставший повар забывал про кофе. Кумбс, думал Краббе, бедный Кумбс, несмотря на тысячи в банке, на удобство бархатных кресел и сигары в редкие приезды в лондонский офис.
Малайцы с улыбками помогли Краббе сойти на берег, оставили его с тростью и сумкой, засеменив прочь, помахав руками, к своим шеренгам. Вайтилингам стоял в нерешительности, помахивал правой рукой с черным чемоданчиком с лекарствами и инструментами, нервно улыбался и вымолвил, наконец:
— Скот. У скота рак.
— Лучше с Кумбсом пойдите сперва повидайтесь, — посоветовал Краббе, — выпейте, или еще чего-нибудь.
Вайтилингам помотал головой.
— Мой долг, — сказал он, не запнувшись. И пошел в сторону домов работников, к замкнутому мирку деревенской лавки, коров и кур, школы и пункта первой помощи. Оставшись один, Краббе страдальчески двинулся к дому, длинным путем со стороны реки, слыша заключительную пульсацию лодки, потом ее привязали до обратного вечернего пути, раздался щелчок заглушённого мотора.