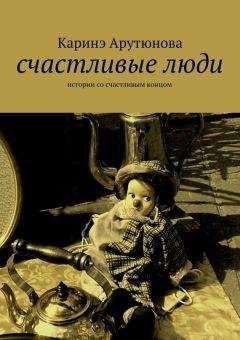Ознакомительная версия.
В начале зимы я обреченно вытаскивала с антресоли вязаный колпак, – его полагалось надвигать на лоб, – я помню это омерзительное ощущение, – голову сдавливало будто обручем, и я вспоминала прочитанного накануне в Айтматова, – «Буранный полустанок», – речь шла о манкуртах, которым натягивали на голову бараний желудок…
Понимаете, да?
Попробуйте походить по улице с натянутым на голову бараньим желудком, – ссыхаясь, он причиняет неудобство, потом – сильную боль, – в итоге он становится изощренной пыткой, в результате которой жертва лишается памяти…
Уже подходя к школе, я стягивала «бараний желудок» и, победно встряхивая волосами, поднималась по ступенькам.
К слову сказать, я честно старалась избавиться от него. Теряла, прятала, запихивала глубоко в шкаф, но…
Наступала очередная зима, и я втягивала голову в плечи, – время темных улиц и бараньего желудка, сжимающего виски. Время ламп дневного света, затяжной ангины и неизбежного унижения в виде бесформенного шутовского колпака.
На город надвигалось средневековое мракобесие.
После четырех улица умирала. На время оживала, конечно, – взрываясь хлопушками, конфетти, петардами, а после – вновь погружалась в сонную дремоту. Только снег поскрипывал под ногами либо чавкала оттаявшая грязь.
Каких-то сто дней, каких-то сто дней, – вот если бы вычесть их, – все эти непрожитые часы и минуты, – а потом получить в порядке компенсации – уже весной, или летом – каждому, пережившему сто лет зимы.
Если исчислять счастье в сахарных крупицах…
Когда страну накрыла Великая сахарная депрессия, мне было не до того.
Человеку, живущему в предчувствии вселенской любви, вообще не до народных волнений.
Интересно, каким выглядел город с высоты птичьего полета?
Бесконечные очереди – от Подола до Воскресенки, с Крещатика до Никольской слободы.
Если вы встречали знакомого, то в одном можно было не сомневаться – он шел за сахаром. Все говорили о сахаре, исключительно о нем.
И все же… все же…
Никогда так не мечталось, как в эти убогие дни.
Тоска по сладкому струилась по темным улицам, хлюпала под ногами.
Это была страстная, горькая, полная надежд весна.
Накрывшись одеялом, мы слушали «Аквариум», Чикаго, «женщину в красном». Мы пили дешевые вина и закусывали холодным горошком из банки. Вспоротая впопыхах, она напоминала разодранную акулью пасть.
Рок-н-ролл жив! – ее знали на политехнической, на университетской, – господи, – ее знал кожно-венерологический диспансер на Большой Васильковской и на Саксаганского, – кто не знал Наташку-выпь из политеха, тот не видел ничего, – таски! таски! (от слова «тащусь») – вопила она, воздевая два растопыренных коротких пальца, – пухлая, горячая, мягкая, с горящими никогда неунывающими глазами, она была сладка как южная ночь в Кентукки.
Сладка и безотказна, – любой подтвердит, – ау, где вы, – дети разных народов, кочующие племена, – дети Исмаила и Юсуфа, – вспоминаете ли ли вы о маленькой охочей до сладкого Наташке?
Сахарный песок был в цене. Излишки его огромными глыбами томились в неизвестных товарняках, на безымянных станциях, – таяли под хмурым мартовским небом, оставляли липкие потеки на снегу.
Кому-то все это было нужно.
– Рок-н-ролл жив! – в последний раз взлохмаченная шевелюра мелькнула в распахнутом окошке третьего этажа квж на Жилянской, – с зажатым в ладони сникерсом она улыбалась в проеме окна, – совсем как-то по-детски, – ничего блядского, ничего порочного не было в ее улыбке, обнажающей чуть скошенные передние зубы, – ветер перемен смыл даже память о ней, отчаянной девчонке из какой-нибудь смешной Коноплянки или Бердичева.
Пока сахарные магнаты подсчитывали барыши, страна томилась в предчувствиях.
Предчувствие весны, я вам скажу, ничуть не меньше, чем сама весна, и предчувствие перемен на подступах к счастью – не было ли оно тем самым, вожделенным, строго по пачке в руки, – женщина, больше не занимать, – я вон за той дамой в махровом берете
Иронический склад ума предохраняет от любых форм религиозного рвения.
Я легко очаровываюсь. Как правило, красотой обряда, формы, глубиной подтекста и содержания, но абсолютно неспособна соответствовать.
На мифах (пускай даже самых правдоподобных, но, несомненно, приукрашенных размахом человеческой фантазии) держится вера.
Все-таки, многие догмы должны усваиваться с молоком матери.
А что говорить о тех, кто вырос на полуфабрикатах? На рыхлых молочных смесях? На унылом городском молоке?
Что говорить о тех, кто мотал срок в дошкольном учреждении, усваивая как заклинание – Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить? Под залихватский аккомпанемент притоптывал левой и правой? Отдавал честь и равнялся на дружину?
А потом, высунув язык, пририсовывал чапаевские усы какому-нибудь генсеку?
Я слишком громко смеялась, слишком много болтала и вообще, выбивалась.
Отсутствием правильных косичек, манжет и рвения. Да-да, рвения не было, просто не наблюдалось, вот и все.
Ну, разве что, один единственный раз, когда спасали Луиса Корвалана. Ну, и посылки голодных африканским детям. Думаю, сшитая специально по такому случаю полуовца-полусобака необычайно порадовала какого-нибудь голодного африканского ребенка.
Так вот, о рвении. Откуда оно растет?
И куда прячется?
Как что-то важное, судьбоносное, так его нет. Ни на политинформацию, ни старушку через дорогу, ни на сбор макулатуры.
Хотя, нет, вру. Как раз с макулатурой дело обстояло явно неплохо.
Рвение мое летело впереди меня, буквально семимильными шагами.
Помню, как удивился папа, обнаружив пропажу увесистой кипы студенческих работ, лежащих на письменном столе.
Так вот. О рвении. Мне до сих пор стыдно. Я не умею молиться в строю. Равняться и соответствовать.
Если и настигнет меня некое божественное откровение, то в совершенно неподобающем месте.
Вот тут я абсолютно солидарна со своей бабушкой, которая и молиться как следует не умела. И не нуждалась в специальном оформлении своих просьб, покаяний и претензий к Тому, кто Там, наверху.
Время от времени вбегает мама и со страшным лицом вопрошает – ты видела? – что? – лениво огрызаюсь я, увлеченная архиважным делом – размалыванием зерен кардамона, – один очень приличный человек что-то там извлек из безвременно почившей кофемолки, и она зажужжала, заискрилась, завибрировала, – обрела вторую, можно сказать, молодость, а вместе с ней – задор, жар, нетерпение, – так вот, с тех самых пор я рыскаю по дому в надежде – что еще осталось несмолотого? Мешки с крупными зернами вальяжно расположились на верхней полке, – уже распрощавшиеся с иллюзиями, теперь ждут своей очереди, – но и я не так-то проста, – кофе требует правильного подхода, восточной мудрости и воистину бедуинского терпения
Так вот, – несколько крупных зерен кардамона на пригоршню кофейных зерен, – ах, какой веселый сладкий, терпкий треск раздается в моем доме, и даже если все это не будет выпито, то хотя бы перемолото.
Ты это видела? – лицо моей мамы свидетельствует об искренности и глубине сиюминутного переживания, – с некоторых пор моя мама читает фейсбук, и с этих самых пор она свято верит всему прочитанному и увиденному, – ах, мама, – будто бы произношу я, не переставая увлеченно жужжать, – так как кофемолка моя с хитрецой, – она пашет прямо от сети, – это кофемолка с вайфаем, – вместе с зернами она перемалывает последние новости, – да так бойко и вкусно, – ах, мама, – вздыхаю я, – моя мама – достаточно юный пользователь, и еще не прошла все те стадии взросления, которые привелось пройти нам, убеленным сединами…
Ах, мама, – морщусь я, – дели надвое, мама, – каждый снимок и любую новость, – в безбрежном океане интернет-информации поджидают тебя раскормленные величиной с медведя утки, – но ты видела эти снимки? – дрожащим от ужаса и негодования, а также от сострадания голосом вопрошает она, – я видела их два года тому назад, – у меня хорошая память, – ты об этом, где мать закрывает ребенка собственным телом? – удачный момент и удачный снимок, – явная удача репортера, – не каждому так везет, – оказаться в нужном месте в положенный час, – но снимок, можешь не сомневаться, я помню со всеми подробностями, – скажу более, я была там, и тоже бежала под нарастающий вой сирены, и ноги мои были ватными, а сердце билось у самой гортани, – но скажу тебе также, дорогая мама, – именно в это самое время, укрывшись в арке торгового центра, в толпе взрослых, детей, стариков, – ат шомаат? ая бум? (ты слышала? был удар? (взрыв)), и даже видела, как ОНО летело, мама, – так завораживающе, так…
Ознакомительная версия.