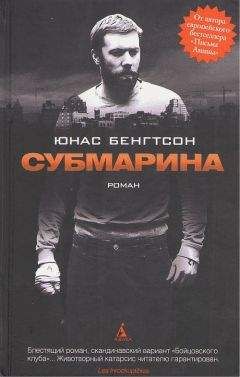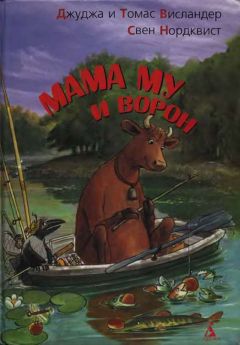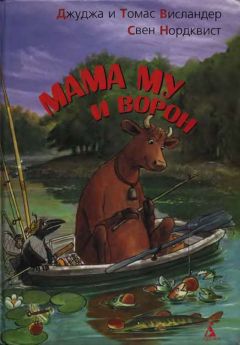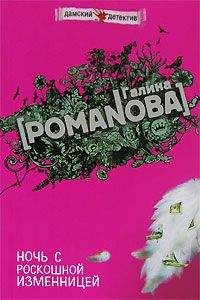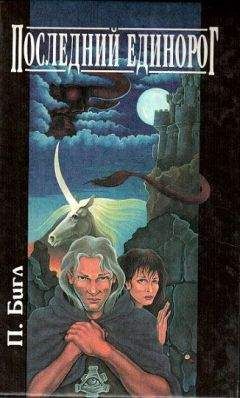Мы держали у его носа овсянку, но он не замолкал.
Все плакал и плакал. Орал и кричал.
Мы засунули ему в рот полкусочка черного хлеба, он закашлялся и снова заплакал.
Ник спросил: тебе когда-нибудь дарили подарки, хоть что-нибудь?
Нет.
В детдоме, если ты не ел, что бывало?
Ты оставался голодным.
Да, ты оставался голодным. Он просто привык к тому, что с ним возятся.
Ему надо усвоить: если дают есть, ешь.
Глотай, или ночью тебе придется плохо.
Брат посмотрел одну передачу о боливийских беспризорниках, нюхающих газ и клей.
Но матери не было дома четыре дня, у нас не было денег на клей, нам пришлось искать магазин подальше, где нас не знали. Мы сидели на полу в гостиной, нюхали остатки краски из пакета. Пили вермут. Пили «Писает Амбон» и зеленый ликер со вкусом киви, все, что мы нашли в кухонном шкафу, где она это оставила или забыла.
В тот вечер мы слушали Элвиса. Если выкручивали звук на полную, вопли братика становились частью музыки. Как малый барабан, почти неслышный. Когда иголка перескакивала на следующую дорожку, мы громко разговаривали. Если надо было перевернуть пластинку, мы гремели бутылками. Мы говорили:
Ну как тебе красная краска? Как зеленая или хуже?
И мы смеялись. Громко смеялись. Смеялись, пока снова не начинала играть пластинка.
Я сказал Нику: может, он болен? Ник был голубоватым силуэтом. До дивана были сотни километров. Удивительно, как это он меня слышит.
Он сказал: давай посмотрим. Если через час все еще будет плакать. Когда Элвис снова споет «Wooden Heart».
Когда он пропоет куплет на немецком. Тогда посмотрим.
Если все еще будет плакать, найдем мать. Придется найти. Если она не в «Обезьяне» и не в «Медведе», то наверняка в «Клоуне». Если только не лежит на спине. Как гоночный автомобиль, на котором меняют колеса.
На пит-стопе.
Через час?
Да, и мы ее найдем.
Наутро мы проснулись на полу в гостиной. «Писанг Амбон» кончился, краска в пакетах высохла. Когда мы заглянули в коляску к братику, он больше не плакал.
Больше не плакал.
52
Три недели. Столько времени нужно. Три недели, и ты привыкаешь.
Три недели.
Утром я сидел в гостиничном ресторане, набивал рот шоризо. Ранним утром, и я успевал выпить еще один эспрессо до встречи с Карстеном и Джимми.
Три недели.
Когда кто-то говорит: дела, бизнес, — думаешь, они имеют в виду холодность, жестокость, деньги прежде всего.
Но теперь я понимаю.
Это бизнес. Я сижу по вечерам с бумажкой и ручкой, считаю оборот, считаю, сколько у меня осталось, насколько разбавить, сколько выручу за грамм, разбавленный и чистый.
Я сижу по вечерам и горбачусь, мастеря упаковку за упаковкой.
Три недели, и ты привыкаешь.
Карстен ждет на скамейке перед Глиптотекой. Так мы договорились. Карстен старше меня на десять лет, сидит на героине с четырнадцати.
Даю ему двенадцать упаковок. Я положил их в коробку из-под компакт-диска «Три тенора в Лейпциге».
Карстен сует коробку во внутренний карман. Угощаю его сигаретой, курим. Два старых друга, любителя оперы, на лавочке перед Глиптотекой. Он сухо кашляет, прикрывшись рукой. Затем говорит:
— У меня есть друг, так? Хеннинг.
— Ну?
— Он нормальный парень, давно его знаю, лет шесть-семь или что-то вроде того.
— Так.
— И когда я ему рассказал, что работаю на тебя, он жутко заинтересовался.
— Он надежный?
— Я давно его знаю…
— Приходи с ним в двенадцать.
Карстен поднимает большой палец и встает, направляясь к Истедгаде. К церкви, к шлюхам.
Через десять минут я встречаюсь с Джимми. На Старой площади, у фонтана. И ему я даю коробку от диска. Он в хорошем настроении. Говорит, познакомился с новой девушкой. В баре работает, у нее большая толстая задница. Огромная задница. И она готовит. Джимми смеется. Я спрашиваю, не знает ли он Хеннинга, друга Карстена? Он качает головой.
Я покупаю две рубашки. Магазин только открылся, продавец стоит у кассы, засовывает диск в магнитофон с таким видом, словно сейчас свалится и уснет. Потом еду домой, готовлю новую порцию. Надо успеть до двенадцати. Я всегда с трудом успеваю на автобусе. Но тощий парень, ловящий такси, слишком сильно смахивает на наркодилера.
Карстен ждет на скамейке. Отдает мне конверт, тот топорщится от купюр.
Спрашивает, не передумал ли я насчет Хеннинга. Киваю. Обходим Глиптотеку, Хеннинг стоит, потирая красные руки. Моих лет, грязная замшевая куртка, впалые щеки. Когда Карстен о нем рассказал, я подумал: как в плохом кино. Я подумал: стукач, диктофон в сапоге. Но парень, стоящий напротив, — настоящий джанки.
Задувы и признаки гепатита.
— Карстен говорит, ты хочешь раскидывать?
— Спрашиваешь, конечно хочу.
— Карстен говорит, тебе можно верить.
— Можно.
— Надеюсь, Карстен прав.
Протягиваю им по диску.
«Три тенора в Лейпциге».
«Три тенора в Мюнхене, Рождественский концерт».
Последний достается Хеннингу.
— Увидимся на этом месте ровно в три. Не без четверти и не четверть четвертого.
Снова встречаюсь с Джимми, на этот раз в парке Орстед. Снова обмениваемся дисками. Он говорит, что поспрашивал о Хеннинге, не знает ли кто. Знают. И говорят разное. Одни — что он нормальный пацан. Другие — что на него нельзя полагаться.
— Жульничает?
— Люди скажут все, что угодно, лишь бы самим получить работу. Такова жизнь. Испытай его.
Мы в задумчивости стоим, глядя на уток, затем расходимся.
Захожу в утренний магазин, обмениваю брюки и покупаю черную рубашку. Черная рубашка всегда пригодится. На выходе я думаю, что нелишнее теперь и утюг купить. Иду в кино, фильм о летчике-истребителе, который сбил самолет своего лучшего друга, из-за того что его ослепило солнце.
Мы с Карстеном снова на скамейке у Глиптотеки. В десять минут четвертого Хеннинга все еще нет. Когда Карстен нервничает, он зевает, дергает мочку уха, чешет руку. Он поручился за парня и теперь нервничает. Давай прогуляемся, предлагаю я.
Карстен снова говорит, что Хеннинг придет. Обязательно придет. Я встаю, и он за мной. Если Хеннинга взяли, здесь не стоит оставаться.
Мы обходим Глиптотеку. Карстен рассказывает мне о героине. Истории о героине. Он много их знает.
О том, что в восьмидесятые доза стоила столько же, сколько девочка на Скельбэкгаде. И цены совпадали в течение многих лет. Росла цена на джанк, росла цена на девочек. Им нужно было обслужить всего трех клиентов в день. Дневная, вечерняя и утренняя доза, так все и шло. Если у какой-нибудь имелся мужик, она брала дополнительно одного-двух клиентов. Это было еще до того, как дилеры разобрались, что они здесь главные. Что цену можно и поднять. Что девочкам придется всего лишь поработать побольше. Рынок продавца…
Он виновато на меня смотрит:
— Послушай, я…
— Все нормально.
Он смеется над собой, я смеюсь вместе с ним. Теперь я дилер. Нет места высоким чувствам. Называй вещи своими именами.
— Ты знаешь, где найти Хеннинга? Если его, конечно, не забрали?
— У него есть девушка, но… Можем попробовать к ней наведаться. Но у них то так, то сяк… Вряд ли она нам обрадуется.
— А меня очень волнует, обрадуется она или нет.
Если только Хеннинг не курит сейчас в полицейском участке любезно предложенную следователем сигарету, попутно описывая мои волосы, штаны и ботинки, то он шляется по городу с десятью моими дозами. Я зол, сам на себя зол. Вообразил себя хозяином мира.
Обойдя Глиптотеку два раза, мы вдруг увидели Хеннинга на скамейке. Он быстро и громко заговорил:
— Прости, чувак. Потерял три чека. Пересчитал деньги, понимаешь, все прикинул, прикинул в уме. Похоже, три чека улетело. Из кармана выпали.
— Выпали из кармана?
— Просто не понимаю, куда они могли деться. Может, меня кто развел, но…
— Давай оставшиеся деньги.
Он вынимает пачку денег из куртки, протягивает мне.
— В коробку надо было положить.
— В какую?..
— Три тенора! От диска, идиот.
Он вынимает из кармана коробку и собирается засунуть туда деньги. Я отбираю у него все, бросаю в пакет с купленной одеждой.
Он ломает руки.
— Остальное ты продал?
— Да. Да, хороший товар, он сам себя продает. Шикарно, черт, ты бы видел, как все разлетелось. Мне б машины продавать.
— Давай-ка притормози.
Не то чтобы кто-нибудь остановился или косо посмотрел, но я стою у Глиптотеки с двумя пацанами. Не надо быть криминалистом или медиком, чтобы понять: эти ребята — наркозависимые.
Сажусь на скамейку, рукой похлопываю по сиденью рядом. Хеннинг садится и, похоже, собирается продолжить. Я поднимаю руку:
— Ты потерял три чека, три моих чека?