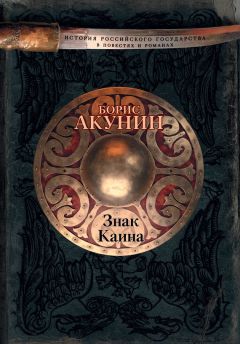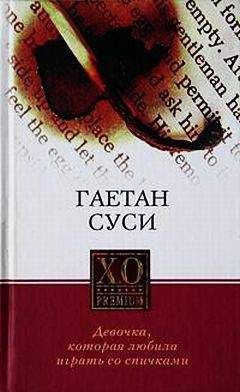Одно было для него очевидно: даже когда он шел по незнакомой улице, стоило ему только прислушаться к звуку, раздававшемуся в голове, как он сразу же находил дорогу к своему жилью. Может быть, причиной тому был шарик, подвешенный на нитке над его подушкой. Звук этот походил на протяжный звон колокола: когда Ксавье шел не в ту сторону, звук стихал, а когда двигался в направлении своей каморки – усиливался. Это было очень удобно, потому что как-то Философ дал ему карту города, и Ксавье чуть не свихнулся, пытаясь разобраться в том, что к чему на малюсеньком ее кусочке. Когда он достигал цели своего путешествия, а именно здания, в котором жил, звук стихал, дело было сделано.
– Мозги у меня птичьи, – говорил он иногда. – Компас мне ни к чему.
Но в тех ситуациях, когда дело не касалось его жилья, этот звук не мог ему помочь ни в чем. Во всех других случаях он чувствовал себя совершенно потерянным. Не мог отличить левую сторону от правой стороны. На самом деле тогда звучал не колокол, а эхо, доносящееся после того, как язык ударяет о стенку.
Он свернул на улицу в рабочем районе, где находился его дом. У тротуаров были припаркованы грузовики, мастерские уже все позакрывали, тускло светили уличные фонари. Хоть на улице почти никого не было, Ксавье свернул в переулок, чтобы обойти стороной «Шахматный клуб». Так называлось кафе, куда он как-то по глупости заглянул, возвращаясь с работы. Сначала он остановился у окна, потому что оно светилось теплым желтым светом. В витрине неподвижно, как манекены, стояли два человека, склонившиеся над шестьюдесятью четырьмя квадратиками. Ксавье не помнил, чтобы он когда-нибудь учился играть в эту игру, но с самого первого взгляда она ему стала предельно ясна – все ее правила, ходы, рокировки, взятие фигур на проходе, у него возникло такое чувство, что игра была у него в крови с самого начала времен. А когда он увидел, как ходят те игроки, у него не просто под ложечкой засосало, у него ком в горле застрял, потому что ходы, какие они делали, просто противоречили здравому смыслу. Особенно бородач, который, казалось, играл с нарочитой глупостью. Он делал один ход нелепей другого, словно вспоминая о том, как начинал учиться играть. Партию выиграл его соперник, причем выиграл он ее, если можно так выразиться, по чистой случайности – ни дать ни взять просто ужас какой-то. Заметив Ксавье, победитель махнул ему рукой, приглашая зайти и сыграть, если он в настроении. Помявшись в нерешительности, Мортанс зашел в помещение. Он с поразительной легкостью обыгрывал там всех подряд, без разбора, даже самых лучших игроков, и к полуночи столик, за которым он играл, стал центром всеобщего уважения, граничившего с благоговейным трепетом. Когда в конце концов он оттуда ушел, его просто тошнило от двухцветных квадратиков. В его возбужденном мозгу игра продолжалась всю ночь напролет. Если он пытался сомкнуть глаза, становилось еще хуже, и перед его мысленным взором как на экране одновременно разыгрывались сто десять партий. На рассвете он впал в забытье и почти на час опоздал из-за этого на работу. Своей сестре – Жюстин он написал: «Нет ничего опаснее для моего разума, чем эта игра, если можно так ее назвать. Она как западня для мысли, и если мысль в нее попадает, то оказывается в темнице, из которой не может выбраться, и я начинаю терять рассудок». Он дал себе зарок никогда больше в эту западню не попадать.
По дороге к дому по переулку, которым он шел, надо было пройти через двор скотобойни, поставлявшей мясо для засола по французским рецептам; ее французское название «Салезон Сюпрем» писалось на английский лад. Ксавье посчастливилось, потому что по ночам глотки животным не перерезали. На воротах для въезда грузовиков со скотом для забоя висел плакат, изображавший усатого мужчину с ножом в руке и в фартуке, заляпанном темно-красными пятнами; над плакатом на ленте, которую с двух сторон поддерживали ангелочки с поросячьими рожицами, на латыни был написан девиз компании: «Для христиан – соборование, для исчадий ада – лучший засол». От свернувшейся крови асфальт двора был липким, и когда парнишка шел по нему, подошвы его кроссовок противно поскрипывали. И запах там стоял соответствующий.
Наконец Ксавье дошел до дома, где снимал свою конуру. Который теперь, интересно, был час? Он подошел к дверце лифта, где, как обычно, висела табличка с надписью о том, что администрация приносит извинения за то, что лифт не работает. Ему пришлось по лестнице подниматься на восьмой этаж к себе в комнатенку, куда он добрался уже совершенно обессиленный. В коридоре мутно светила только одна лампочка. Он на ощупь пробирался к своей двери, потому что уже не мог твердо стоять на ногах, и ему пришлось опираться на стену. Вдруг он почувствовал рядом чье-то присутствие, тень, тепло, совсем близко, не больше чем в полуметре от себя. Он определил это присутствие по черному блеску волос, а еще по женскому духу. Позже, когда он писал то имя в письмах сестре, его начинала бить дрожь. О’Хара. Пегги Сью О’Хара,
Ей было двадцать два года, и Ксавье поражался тому жизненному опыту, который у нее накопился за такую долгую жизнь. Кроме того, она делала невероятные вещи со своими волосами. Она каждый день меняла прическу. Должно быть, потому, что работала парикмахером. Иногда по вечерам, чтобы немного подработать и из-за любви к книгам, Сью торговала в букинистическом магазине (так она говорила). Ей всегда хотелось, чтобы он звал ее Пегги, просто Пегги. Но подручный не мог ее так называть.
Ей показалось, что Ксавье поздно вернулся домой, и она мягко сказала ему об этом. Как обычно, когда она была рядом, Ксавье не знал, что ему делать с руками, ногами, сердцем, коленками, лицом и всеми прочими частями тела.
– Я сегодня немножко переработал,- сказал он, и это не очень противоречило истине, но в голове у него мелькнула мысль о том, что в тот день ему пришлось слишком много врать, и он коснулся носа, чтобы проверить, так это или нет. Потом, нащупав дверь своей каморки, он, не говоря ни слова, зашел в помещение.
Ему казалось, он дал ей этим понять, что хочет остаться один. Хоть внутри было очень тесно, он там, по крайней мере, мог быть наедине с самим собой.
– Эй! Что это ты собрался у меня делать? – спросила Пегги с улыбкой.
Подручный искоса взглянул на номер комнаты и понял, что Пегги была права. Эта ошибка в особенности удручила его. Ему казалось, что голова у него просто раскалывается от вопросительных знаков. Пегги подошла к нему и, положив ему руку на плечо, даже испугалась того, насколько он был худым. Ключица выпирала у него, как дужка у цыпленка. Ксавье почувствовал, как во рту застучали зубы. Он не отдавал себе отчета в том, что говорит, только слышал звук собственного голоса. Он следил за собой с удивлением, его голос звучал так, будто кто-то тряс его за плечи.
– Он выбил дверь ударом головы… у него весь лоб был в крови… все в ладоши захлопали, когда она выскочила из дома… в панике… это тот дом, где лестница упала прямо на Ариану… ступеньки обрушились вниз, когда девочка стояла на лестнице… а в часовне такие цвета… как будто подвешенная за ноги и выпотрошенная лошадиная туша свисает с крюка в мясной лавке.
Пегги Сью коснулась лба паренька, и ей будто обожгло пальцы, а Ксавье – измотанный до предела, взвинченный до крайности – уткнулся носом в ее восхитительные волосы, увлеченный отвесом невероятной усталости. Пегги мягко приподняла ему голову. Сказала ему, что не может оставить его одного в таком состоянии. Подручный, покорный и чуть живой, ни в чем ей не противоречил. Каморка Ксавье размером была чуть больше могилы и почти такой же пустой. Кровать, стул и стол (на самом деле это был не стол, а широкая откидная полка, привинченная к стене шурупами). Из стены вылезал кусок резинового шланга, из которого все время текла тоскливая струйка воды. Покрытая пятнами ржавчины раковина крепилась чуть выше и левее постели. Этот непрерывный ток воды мучил подручного все ночи напролет, постоянно вызывая у него желание помочиться. Пегги щелкнула выключателем; лампочка без абажура тускло осветила комнату.
С трудом передвигая ноги, мелкими шажками Ксавье шел туда, куда она его вела. Он бормотал какие-то фразы, вроде: «Я шел все выходные, пятнадцать дней кряду», – и сам не понимал значения того, что говорит, слова сами по себе слетали у него с губ, полки слов без полковника, без авангарда и арьергарда, они сами, тесня друг друга, проскальзывали у него между зубов. Пегги уложила его на матрас, набитый свалявшимися в кучки перьями, на котором он, как принцесса на горошине, ворочался, потому что металл железных пружин врезался ему в бока. Пегги осторожно взяла у него из рук ларец. Поначалу он никак на это не отреагировал. Но когда она поставила ларец на стол, Ксавье вскочил с кровати и схватил его.
– Я вовсе не собиралась красть твою коробку, – пояснила ему девушка терпеливым и убедительным тоном, каким часто говорят с больными. – Это твоя коробка, Ксавье, мне даже совсем не интересно, что там внутри.