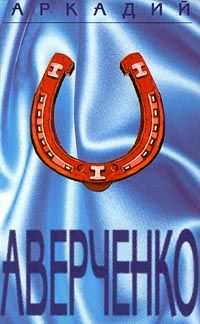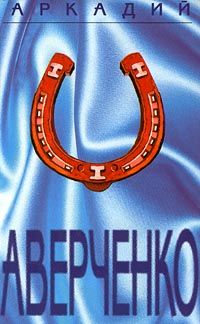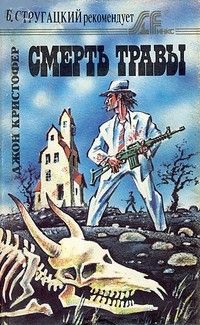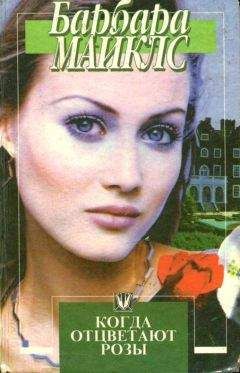За гумном, по дороге в деревню одиноко шел Андрей. Анна узнала его по рослой, чуть ссутуленной фигуре. Она прибавила шагу и с бьющимся сердцем догнала тракториста.
Она заметила, что Андрей шел очень уж медленно. Возможно, он хотел, чтобы она была рядом с ним. Но Аннушка отогнала прочь такое предположение.
Поравнявшись, она сказала:
— Вы же купаться хотели! Вот тропа. Здесь река рядом.
— И в самом деле, — оживился Андрей, — Пожалуй, пойду на речку, умоюсь, а может, и выкупаюсь. Идём вместе?
Аннушка хотела было отказаться, но почему-то послушно пошла за ним. Река протекала метрах в трехстах от тока, за обширным отлогим лугом. Луг был совершенно чистый и гладкий, и только у самого берега плотной стеной рос ивняк.
Забрезжил рассвет. Можно было уже различить головки отцветающей ромашки и засохшего клевера, валявшегося на белесой тропинке. За рекой занималась заря, робкая, ранняя. Звезды в небе мерцали спокойно, неторопливо, но вот одна из них, сверкнув вдалеке, упала искоркой куда-то в травы. Аннушке, как в детстве, захотелось бежать туда и найти эту звезду, взять ее в руки и узнать, холодная она или горячая. Потом принести звёздочку домой, положить в стакан и, просыпаясь по ночам, любоваться её трепетным голубоватым неземным светом.
Подошли к берегу. Андрей молча опустился на влажную от росы траву, скинул пиджак и разостлал его на земле.
— Садись, Анна Егоровна!
Аннушка, поколебавшись, села, не слишком рядом к нему. И внезапно ощутила прилив нежности и тепла, идущего неведомо откуда: то ли от воды, которая бывает по ночам теплая, то ли от звездного света, а может быть, от зари или слабого утреннего ветра, насыщенного туманами.
Ей вспомнилось, что давно, очень давно она вот так же сидела с Алексеем на берегу, и тогда ее охватывало вот такое же чувство, такое же удивительное тепло. Она была благодарна Андрею, который вновь помог ощутить забытое, то, о чём на протяжении многих лет она не могла и думать, поглощенная суетными будничными делами и заботами.
Андрей тоже, вероятно, вспоминал вечера, проведенные с Христиной на берегу далекой Кубани.
Оба долго молчали. Потом тракторист взял ее за руку бережно и ласково.
— Доброе утро начинается! — сказал он. И опять пахнуло от него таким хорошим и знакомым запахом машинного масла и табака. — А звёзды, звёзды как часто падают! Смотри, вон, опять!..
— Сверкнула звёздочка, — тихо ответила Аннушка.
Андрей выпустил ее руку из своей большой я теплой ладони и молча спустился вниз. Наклонился, попробовал воду рукой и весело сказал:
— Можно купаться!
Он скрылся за кустами, разделся, бросился в воду, взбудоражив тишину своими всплесками и фырканьем, и поплыл саженками к другому берегу.
Аннушка тоже спустилась к реке, как когда-то девушкой распустила волосы и почти благоговейно умыла усталое лицо свежей водои с запахами тины и кувшинок. Она снова почувствовала себя молодой, неутомимой, проворной, и ей захотелось петь. Но петь она постеснялась и, поднявшись снова на обрыв, причесалась, надела платок и, полулежа на разостланном пиджаке, смотрела на небо, ожидая, когда над горизонтом опять бледной искоркой мелькнёт падающая звезда.
Пассажирский поезд остановился на станции Берёзкино. Проводник восьмого вагона Василий Лукич Нестерков, плотный, низкорослый, с морщинистым скуластым лицом, не выражающим ничего, кроме равнодушия и усталой сонливости, сошел с подножки на утоптанный снег и, светя фонарем, стал проверять билеты новых пассажиров. Пассажиров было немного: женщина, закутанная в черную шаль, девушка в пальто с рыжим воротником и в вязаной шапочке да двое мужчин. Василий Лукич мельком взглянул на них и пропустил в вагон: у всех пассажиров билеты были в порядке.
Потом Нестерков взял ведро и отправился за кипятком. На пути к кипятильнику бросил беглый взгляд на здание вокзала, неярко освещенное уличными фонарями. Вокзал был деревянный, с замысловатыми башенками и островерхой крышей, устремленной в звездное небо. Раньше на его месте стоял простой бревенчатый дом, внутри которого было неуютно и почти всегда грязно.
По этой ветке Нестерков ездил уже много лет и привык к станции Березкино так же, как ко всем остальным станциям. Но с этим вокзалом и здешними местами у него было связано немало воспоминаний. Старый вокзал строили в тридцать шестом году, и Василий, тогда еще молодой и крепкий парень, работал на строительстве плотником.
Здесь, в двадцати километрах от станции находилась деревня Кукушкино, где Нестерков родился и вырос и где осталась у него прежняя жена, с которой он разошелся лет пятнадцать тому назад.
Став железнодорожным рабочим, Василий начал частенько выпивать и за выпивкой свёл знакомство с бойкой стрелочницей Любкой Гуськовой. Знакомство превратилось в увлечение, увлечение — в связь. Любка — разбитная, смешливая, синеглазая, сумела быстро завладеть сердцем молодого парня. Случилось это как-то неожиданно, в угаре дружеской пирушки, а потом, сравнивая стрелочницу с Настасьей, тихой и скромной деревенской женщиной, Василий решил, что ошибся в выборе жены. Всё чаще и чаще он оставался ночевать на станции, все реже и реже приносил семье деньги. Однажды, поспорив с женой после очередного кутежа, Василий махнул рукой и, уйдя осенней ночью к Гуськовой, остался у неё навсегда.
Он не думал о том, правильно или неправильно поступил. Жизнь казалась ему такой легкой и удачливой, что даже судьба только что родившейся дочери в то время не занимала его мыслей.
У Настасьи был твердый характер. Она не пришла за ним, сама подала заявление о разводе.
Шли годы. Нестерков работал путевым рабочим, потом стрелочником, сцепщиком, переменил еще несколько профессий и наконец стал проводником в пассажирских вагонах. В этой должности он остался, как чувствовал и сам, на всю жизнь, до старости. У Любки Гуськовой, его второй жены, оказался капризный, своенравный и крутой характер, она, как выражался Василий, «калила» его за малейшую провинность и посматривала, как бы он не ушел к старой жене в Кукушкино. Василий сначала возмущался, несколько раз порывался вернуться к Настасье, но потом смирился и с равнодушной покорностью стал тянуть супружескую лямку.
Детей от Любки у Нестеркова не было. Некоторое время он высылал Настасье с дочкой часть заработка, и тем заботы кончались.
Приближалась старость. Василий стал забывать о Настасье, о своей молодости. Если раньше он еще подумывал о том, чтобы навестить Настасью, посмотреть, как она живет, то теперь и думать перестал об этом. Она, конечно, его не примет. И всё-таки иногда, проезжая Берёзкино, Василий невольно вспоминал былое.
Василий Лукич налил в ведро кипятку и вернулся в вагон.
Дежурный по вокзалу ударил в колокол. Морозную тишину февральского вечера прорезал свисток главного кондуктора, чугунная глотка паровоза рявкнула гудком, и, погромыхивая, поезд двинулся дальше.
Василий заглянул в отопительное отделение, добавил в топку угля, пошуровал кочергой и, проверив, плотно ли заперта входная дверь, вернулся в вагон. Мимо него прошел молоденький сержант с папиросой в зубах и полотенцем, торчащим из кармана. В проходе у окна стояла девушка в коричневом платье, закрытых туфлях с меховой оторочкой и с длинной, ниже пояса косой. Стоя спиной к проходу, она царапала ногтем заиндевевшее окно.
Василий прошел в другой конец вагона, по привычке и по долгу службы поворчал на курильщиков, набросавших на пол бумажки и окурки и, взяв веник, стал подметать вагон. Когда он добрался до середины, женщина-пассажирка спросила:
— Товарищ проводник, у вас нет чаю?
— Чаю? Нет. А кипяток в бачке, — ответил Василий, подняв голову, — можете… — и осекся. На измятом и сером лице его появилось выражение крайней растерянности: перед ним сидела Настасья. Он узнал ее сразу, хотя не видел уже давно, и она, конечно, изменилась.
Настасья тоже удивилась, некоторое время молчала, рассматривая своего бывшего мужа с изумлением и любопытством. Потом полуприкрыла глаза ресницами и сказала тихо:
— Здравствуй, Василий. Как живешь?
Он уронил веник, поправил ремень на черной рабочей гимнастерке и переступил с ноги на ногу, скрипнув клееными калошами:
— Ничего живу. Работаю вот…
Не зная, продолжать ему подметать пол или нет, посмотрел на Настасью еще раз. Он примечал, как она одета, как выглядит, сильно ли постарела. Увидел на щеке возле уха родинку и вспомнил, как когда-то подшучивал над ней: мол, родинка не на месте. А она отвечала, что это к счастью. «К счастью!.. Счастлива ли она?»
Он достал папиросу и, взяв ее не тем концом в рот, ощутил неприятную горечь табака. Повернул папиросу и из-под полуприкрытых век стал пристально разглядывать бывшую жену. Он был поражен тем, как внешне изменилась Настасья. Это была уже не та тонкая, всегда утомленная работой и хлопотами по дому застенчивая женщина. Взгляд его упал на ее руки. Раньше они были какие-то неуверенные, черные от загара и трещинок, прорезавших кожу, а теперь — сильные, смугловатые — они спокойно и деловито лежали на коленях. Ему даже стало неприятно, что у нее такие красивые чистые руки.