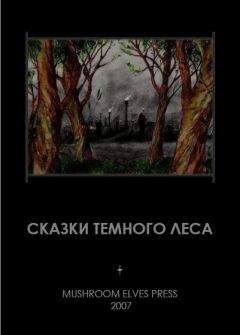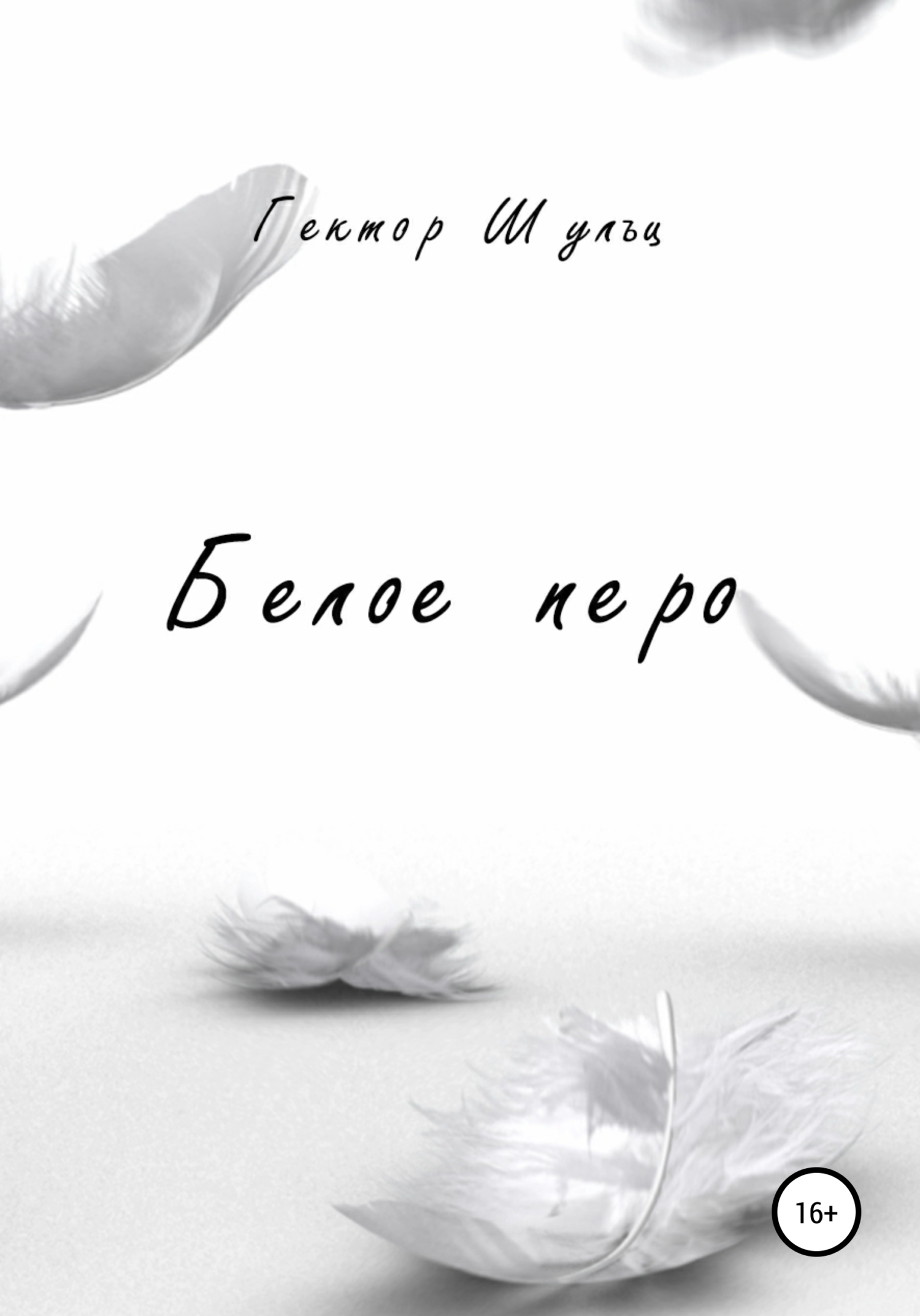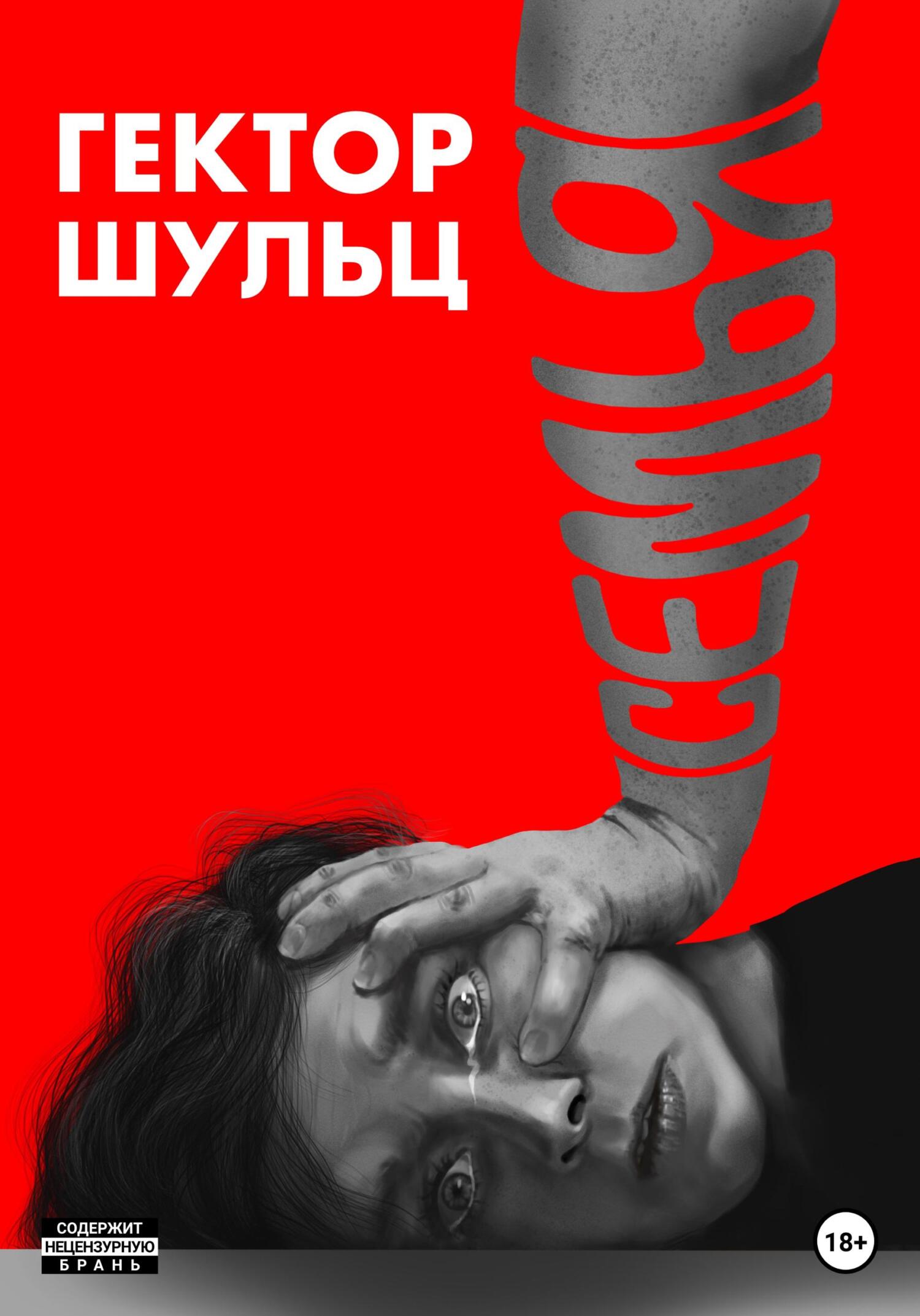отъездом. А все из-за невероятной терпеливости и безумной энергии Елены Владимировны.
Я, пересилив застенчивость, частенько оставался после уроков на два часа, чтобы обсудить с ней очередную прочитанную книжку. Она единственная, кто не говорил мне, что фэнтези и фантастика – это хуйня. Наоборот, она, казалось, прочла все и знала даже то, что никто не знает.
Мое сердце замирало, когда мы, обсуждая Толкина, вдруг придвигались друг к другу, и я чувствовал тепло её бедра, на миг прижавшегося к моей ноге. Именно Елена Владимировна возродила во мне любовь к литературе и всячески поддерживала её, не занимаясь обсиранием, как остальные уроды.
Шпилевский на её уроках улыбался. Его никогда не вызывали к доске, предпочитая давать письменное задание. Более того, Елена Владимировна научила его читать стихи без заикания всего за пару часов, когда Лёнька оставался после уроков. Все вытаращили глаза и открыли рот, когда он однажды вышел к доске и ебанул отрывок из «Бородино» без заикания. Он сам охуел, когда ему захлопали, и охуел вдвойне, когда увидел, что ему хлопает Дэн и Глаза. А рецепт был прост: Елена Владимировна научила Шпилевского рассказывать стихи нараспев, потому что заики, когда поют, не заикаются. Это она потом объяснила мне, когда я поинтересовался, как у нее получилось сотворить чудо с Лёнькой.
К сожалению, её заставили уйти из школы под давлением «старых» учителей. Антрацит, Кукушка и Рыгало выступили в едином порыве и выебали Слепому мозг, что молодая хамка занимается на уроках хуй пойми чем и детей не учит. Елена Владимировна ушла сразу после экзаменов. Ушла тихо, и только наш класс высыпал провожать её. Ей говорили добрые слова, обнимали, и даже Зяба был угрюм и неразговорчив. На следующий день он как-то сумел пробраться в кабинет Слепого и надристал ему в ящик стола. Скандал тоже был, потому что Зяба засрал какие-то важные бумажки с подписями. Но виновного так и не нашли, да наши бы его и не сдали. Даже лохи, при всей ненависти к Зябе, в тот момент промолчали.
Елена Владимировна ушла, и литературу у нас стал вести Слепой. На уроки вернулось уныние и его стоящий хуй, когда он дефилировал между Панковой и Лазаренко. А Шпилевский частенько плакал в туалете, когда был один. Только я знал, почему он плачет. Ушел единственный человек, который не относился к нему, как к говну.
После ухода Елены Владимировны наш класс снова превратился в стадо уебанов.
Вторым человеком в нашей школе был трудовик. Арсений Игоревич.
Шаблон, что трудовик вечно пьян, подтвердился, когда мы в пятом классе впервые переступили порог мастерской. Арсений Игоревич восседал на стуле за своим занозистым столом, на столе стояла полупустая бутылка водки и пепельница. В классе воняло перегаром и сигаретами, но всем было похуй.
Арсений Игоревич бухал по одной причине. Афган, откуда ему чудом удалось выбраться. Лицо трудовика было перекошено, да и ходил он странно, постоянно прихрамывал. Все из-за ранения, как он однажды рассказал нам, сопливым пацанам, благоговейно слушавшим сухой и жесткий рассказ о войне.
Бухал он всем, что горит, из-за чего и получил погоняло Калдырь. Слепого его попойки не волновали по одной простой причине. Рукастее мужика было не сыскать. Поначалу было странно наблюдать, как его трясущиеся руки внезапно замирают, и он начинает творить. А потом к этому все привыкли.
Арсений Игоревич, порой отрыгивая выпитую на перемене водку, работал за токарным станком так, словно он убежденный трезвенник. Руки не тряслись, работа спорилась, а мы, окружив его, внимали мудрости. Каждое свое действие он подробно объяснял: зачем, как, почему. Объяснял так, что вопросов не оставалось даже у тупых Зябы и Кота.
Он учил нас не только строгать указки для учителей и лепить киянки из непросушенного дерева. В восьмом классе он начал учить нас разной бытовухе. Как самому починить розетку, как сколотить табурет, как провести проводку, как ремонтировать сантехнику.
Он был жесток и сух, но наши его уважали. Даже Глаза, который однажды полез в розетку под напряжением и получил нагоняй от Арсения Игоревича.
– Комаренко! – рявкнул он, когда Глаза тряхнуло и весь класс заржал. Он подошел, влепил Глазам хороший такой подзатыльник и добавил: – Ну шо ж ты такой долбоеб, Комаренко? Папка у тебя тоже долбоебом поди был?
– Нет, – ответил ему Глаза, но предательская улыбка трудовика заставила его заржать.
– Так не подкачай папку-то. А ну как узнает, шо сын у него долбоеб, да удавит самолично. Проверь сначала, шо отключено, а потом лезь пальцами. Понял?
– Понял, – ответил Глаза и снова полез в розетку пальцами, за что снова получил подзатыльник и полагающийся ответ.
– Нихуя ты не понял, Комаренко, – и общий ржач поставил точку в этом странном диалоге.
Да, он ругался, не стеснялся при нас пить водку из горла. Но не было случая, когда он отказал кому-то в помощи или забил на урок. Он никому не ставил двойки и вместо этого заставлял человека сделать так, как надо. Терпеливо объяснял раз за разом, иногда взрывался, крыл матом и отвешивал подзатыльники. Но никогда не опускал руки. Именно он сделал из безруких долбоебов худо-бедно рукастых людей.
Глава третья. Люди нашего двора.
Дорога до школы занимала у меня пятнадцать минут, и идя домой, я часто встречал людей из своего двора. Старых и молодых, старшаков и моих ровесников, которые учились в других школах или в шараге неподалеку.
Чуть поодаль от школы, через дорогу от моего двора, среди густых кустов и мусора, располагался Колодец – бетонная коробка под землей, где на горячих трубах любили собираться зимой наши старшаки и пацаны со двора. Они курили, дышали клеем, бухали дешевой бормотухой, которую гнала моя соседка и продавала за скромную цену всем, кто не мог позволить дорогой алкоголь.
В детстве я любил зависать в Колодце. Казалось крутым, что ты толкаешься со старшаками, лишь со временем стало понятно, что мы были для них чем-то вроде клоунов. Казалось смешным напоить пиздюка, а потом смотреть, как тот блюет и пытается не ебнуться в обморок. Мне повезло избавиться от Колодца в моей жизни, но были и те, для кого Колодец стал вторым домом.
– Э, Ворона! Эт ты? – пьяный и знакомый голос остановил меня, когда я медленно брел домой по хрустящему снегу и наслаждался морозным воздухом. Повернувшись, я увидел торчащую из люка голову и немигающие погасшие глаза Мафона, одного из наших старшаков.
– Ага. Здарова, Мафон! – крикнул я, делая шаг вперед.