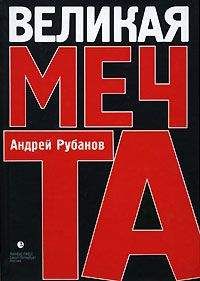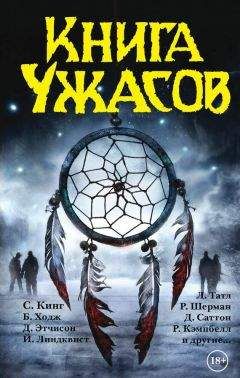Родной городишко еще кое-как держался под напором перемен. Столица же ходила ходуном, пронзаемая молниями новых эмоций, – к сожалению, по большей части отрицательных. Зависть – к тем, кто богат. Презрение – к себе, за то, что беден.
Я ездил туда почти каждый день. Хлопотал о восстановлении на родной факультет.
Москва теперь виделась мне как другая планета, именно так. Даже сила тяжести здесь была как будто меньше. Электростальские люди на своем электростальском полуразрушенном перроне загружались в электрический поезд тяжело и прочно, а по приезде в столицу выбегали, едва не подпрыгивая, дышали шумно и глубоко, переговаривались зычно и бодро.
Все смешалось и перевернулось. Цены и стандарты жизни поползли вверх. Еще вчера широкая публика весело спешила на заводы и стройки народного хозяйства, а после терпеливо парилась в очередях за разливным пивом. Но неожиданно – буквально в течение года – оказалось, что такая жизнь убога. Стопроцентно убога, без всяких скидок. Оказалось, что можно не задыхаться в очередях, не штопать подштанники, не звенеть медными копейками в карманах, не бегать от автобусных контролеров, не экономить на собственном желудке.
Уже проезжали, сексуально сверкая, по Моховой улице мимо меня – вдумчивого студента двадцати лет, видавшего виды дембеля, значкиста ГТО, обладателя разряда по гиревому спорту – новенькие лимузины с затемненными стеклами, а я все твердил себе, что не стоит смотреть по сторонам, а следует сконцентрироваться на своих прямых задачах – овладевать профессией и трудоустраиваться.
Стиснув зубы, я зубрил науки. А в перерывах стирал – через два дня на третий – свои единственные джинсы.
Действовал армейским способом. Мочил водой, затем распластывал на дне ванны и драил жесткой щеткой. Так солдаты стирают свое «хэбэ». Тот, кто никогда не стирал предмет под наименованием «хэбэ», никогда не достигнет подлинных высот в мастерстве стирки джинсов. Настоящая джинса от применения «хэбэ»-метода только выигрывает, становится пронзительно голубой и мягкой. Ласкает и лелеет тощие студенческие чресла.
Я много работал. Производил по статье в неделю. Меня хорошо брали московские газеты, и даже «Московский комсомолец» (тираж три миллиона) дважды взял мои статьи. Я делал переводы из немецких журналов и продавал в русские журналы. Ночами, как полагается, стучал на машинке. Писал медитативно – нецензурную, в стиле Венички Ерофеева, повесть о молодом человеке, которого пырнули ножом. Шатаясь и падая, он едет домой в общественном транспорте. Его принимают за пьяного, оскорбляют и стыдят. А он молчит и едет, гордый и окровавленный.
К деньгам я относился предельно просто. Недоедал, не пил и не курил, в поездах и автобусах катался бесплатно. У студентов вообще оплата проезда в общественном транспорте считается ужасным моветоном. Далее – с гибкими девчонками не общался. Гибкие мне были не по карману, другие же не очень интересовали.
Но однажды я выложил астрономическую сумму в пятьсот рублей за профессиональный диктофон – вещь для журналиста необходимую.
И в будущем, предвидя годы безденежья, я намеревался поступать так же. Экономить максимально на всем, но покупать раз в год крутые, дорогостоящие штуки. В этом я видел стиль.
Мечтал о собственном видео. В конце восьмидесятых собственное видео прочно стояло по престижности на втором месте после собственного авто. Не стану врать – я регулярно захаживал в заведения под вывеской «видеосалон», дабы посмотреть боевик со Шварценеггером или другим героем экшна. Все-таки душа жаждала красок, восторгов, зрелищ. Фильмы, сделанные американцами для тринадцатилетних подростков, в России теперь, затаив дыхание, жадно смотрели вместе со мной сорокалетние мужчины. Иные приходили с семьями.
Умник, штудировавший Сартра и Камю, Кафку и Джойса, Кортасара и Маркеса, Кобо Абэ и Акутагаву, я с большим удовольствием позволял себе на полтора часа расслабиться в темноте, наблюдая за приключениями неуязвимых супермужиков в исполнении голливудских звезд восьмидесятых. Интересно, что спустя три месяца после прочтения очередного Камю я не мог воспроизвести ни единой фразы оттуда – а многие классические голливудские боевики запомнил наизусть. Такова массовая культура. Она действует максимально эффективно, она въедается в подкорку, она бьет наотмашь.
Вот господин Майер, одесский портной, бежал от коммунистов в Америку и там изобрел застежку, которую сейчас называют «молния». И сколотил на производстве таких застежек миллионы. И вложил их в кино. «Метро Голдвин Майер» – это его контора. Там, в Голливуде, знатоки Сартра функционируют в роли уборщиков и шоферов, а у руля стоят люди, исповедующие сугубо портняжный подход к делу. Там берется все самое яркое, сногсшибательное, бешеное и дикое, крепко сшивается, и получается фильм, от которого захватывает дух у любого ценителя Камю.
Мне скажут, что я должен был мечтать не о электрическом сундучке для развлечений, а о счастье для всех людей, сколько их есть. Ну, или о своем «феррари», о своей яхте, о своем бунгало на Мальдивах и так далее.
Где юношеский романтический максимализм? Где жажда успеха, победы, где желание пробиться на самый верх?
Нет, с максимализмом все обстояло нормально, даже зашкаливало, но я хотел думать о себе как о прагматике.
Однако я ошибся. Я им не стал.
Минул год, как я вернулся из армии. Мозгами, интеллектом я был весь в Камю и Сартре. Лекции и семинары не прогуливал. Угрюмо дрочил древнерусскую литературу. Получал пятерки на экзаменах. В моей жизни все было разложено по полкам, упорядочено и распланировано на годы вперед. Единственное, для чего я забыл отвести отдельную полку, – мое самолюбие.
Я мог сколь угодно сильно топтать и душить его в себе, но так или иначе оно вонзалось в меня каждый день, в переполненной электричке с беготней от контролеров, в стремительном проходе вдоль ряда уличных лотков с интеллектуальной жратвой (книги, журналы, диски, кассеты – все требует вдумчивого ознакомления и анализа, а ты шагаешь мимо, потому что тебе, блядь, вместо книг надо купить макароны и крем для обуви).
Небогатые люди всегда имеют тщательно начищенные штиблеты. Потому что берегут.
Я все пытался найти для больной гордости полку, находил, помещал – а она с грохотом падала ежедневно.
Она постепенно тянула меня в более примитивный, но яркий и цветной мир, – туда, где автомобили с пятилитровыми моторами, где длинноногие девки, где беспринципные дельцы таскают в кожаных чемоданах зеленые деньги.
Ладно, согласен: я мог бы какое-то время потерпеть и без пятилитровых девок с длинноногими моторами, – но почему я в свои годы не имею приличного пиджака?
Что это за перестройку затеяли в моей стране, если я, работая на двух работах, годами откладываю деньги, чтобы купить себе элементарные штаны?
Если честно, я очень спокойно относился ко всему излишне длинноногому и пятилитровому – но без приличных штанов как-то себя не мыслил.
Конечно, страна, которую я семьсот тридцать дней мерил кирзовыми сапогами, не должна мне ничего длинноногого и пятилитрового, – но штаны явно должна. Возможно, не сами штаны как таковые – но возможность заработать и купить...
Так я мысленно глотал сопли и выстраивал в уме длиннейшие демагогические цепочки, тем временем то забивая сваи в комплексной бригаде, то переводя для журнала «Видеопремьер» немецкую статью о любительских порнофильмах, то отправляясь в спортзал выпустить пар, то что-то наколачивая на машинке, выкупленной в бюро проката по списанию – эдакий напыщенный дурачина.
Три или четыре раза, ноябрьскими утрами, когда воздух холоден и влажен, когда с пустых ветвей на подмерзлую за ночь землю падают радужные капли, когда солнце перестает греть, а душа погружается в смертную печаль, уже выпрыгивали из меня безжалостные, мелкие, волосатые, издевались хрипло:
– Упертый кретин! Сворачивай с дороги, философ херов! Закрой свой книжный шкафчик, выбрось пластиночки с заумными песенками! Все это бред, мудовые рыдания! Не сиди на красивом холме, спускайся вниз, поцарапай шкуру! Не корчи из себя всезнайку! Ты трус, ссыкло, у тебя очко играет окунуться с головой в реальную действительность, в действительную реальность, или как там у вас, заумных, это называется?!
Так прошли осень и зима, а в марте появился Юра. И еще как.
В ситуациях, схожих с моей, нужен какой-то внешний толчок, чтобы все вдруг изменить. Воздействие извне. Судьбу каждого человека меняют новые встреченные им люди, а никак не его личные умозаключения и размышления.
Вернувшись домой, я не пытался восстановить дружбу, не искал его. Я никогда никого не ищу – пусть все, кому надо, сами меня ищут. Единственный раз мы случайно встретились на факультете. Он с презрением посмотрел на мои, пошитые мамой, клетчатые брюки. Мы осторожно пообщались – оба знали, что от дружбы двух восемнадцатилетних мальчишек через три года может не остаться ничего. И разошлись в разные стороны.