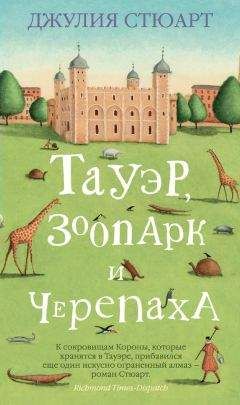Карен Харпер
«Наставница королевы»
Мне все никак не верилось, что сейчас будут убивать саму королеву. И совсем не хотелось наблюдать за тем, как будут рубить голову Анне Болейн. И все же я сошла с барки, приплывшей по водам Темзы, подернутым мелкой рябью, и вместе с прочими зрителями вступила в Тауэр[1] через ворота, выходящие на реку. К горлу подступала тошнота, да и на душе было тоскливо.
Мы оказались в Тауэре — и сразу куда-то исчезли и ласковое весеннее солнышко, и легкий ветерок, гулявший по реке. За этими высокими каменными стенами все казалось мрачным, даже дышать стало трудно. Нам указали места в задних рядах небольшой кучки избранных. Слава Богу, мне хотя бы не придется стоять слишком близко к деревянному эшафоту, специально воздвигнутому для предстоящего страшного действа. Я уже мысленно поклялась себе, что крепко-крепко зажмурюсь — никто на это и внимания не обратит, раз мы стоим позади всех, — и тем не менее смотрела во все глаза.
Пусть я и стояла футах в двадцати[2], но посыпанный свежей соломой эшафот, на который вела деревянная лестница, казалось, нависал прямо надо мной. Как же сможет пройти через весь этот ужас Анна — несдержанная на язык, безрассудная, но все же ни в чем не повинная Анна, которую лишили теперь и титула, и власти, и дочери, и супруга? Она всегда утверждала, что крепка в вере, — быть может, это поддержит ее сейчас.
Мне так хотелось умчаться прочь отсюда! И так трудно было держать себя в руках. На глаза навернулись слезы, но я заморгала, прогоняя их.
Толпа затихла: появилась бывшая королева, ведомая констеблем[3] Тауэра сэром Уильямом Кингстоном и сопровождаемая четырьмя фрейлинами. По крайней мере, сейчас, в последние минуты жизни, она не одинока. Рядом с Анной шел ее духовник, они оба сжимали в руках молитвенники. Анна ступала твердо, высоко подняв голову, ее губы беззвучно шептали молитву. Мне показалось, что я разбираю слова: «Если я пойду и долиною смертной тени…»[4]
Она еще не дошла до эшафота, а на него уже поднялись другие, словно желая приветствовать ее: лорд-мэр Лондона, который ровно три года назад снаряжал на Темзе праздничную процессию кораблей в честь коронации Анны, и несколько шерифов[5] в положенных их званию алых мантиях. За ними вслед — вооруженный мечом палач, лицо которого было закрыто черным капюшоном, и его помощник — их привезли из Франции. Увидев того, кто исполнит приговор над ней, Анна невольно дернула головой.
У подножия лестницы женщина, которая еще недавно была королевой Англии, помедлила всего одно мгновение, затем стала подниматься. На ней было платье из черной камчи, с низким вырезом, отороченное мехом, а под ним — темно-красное нижнее платье («Цвет крови мученицы», — подумалось мне). Свои роскошные темные волосы Анна собрала под сеточку, а поверх нее надела головной убор, который сама же ввела в моду — в форме полумесяца, унизанный жемчугами.
Чистым, звенящим голосом она заговорила, не опуская глаз, — да и бумаги у нее в руках не было. Речь она явно выучила наизусть.
— Добрые христиане! Явилась я сюда, дабы умереть по требованию закона, а потому и слова не скажу против него. Явилась я сюда не для того, чтобы обвинять кого бы то ни было, равно как и не для того, чтобы говорить о том, в чем меня обвинили.
Мне было известно, что подобное смирение было частью договора, заключенного между Анной и Кромвелем, приспешником короля. Такую цену она должна была заплатить и за то, что меня допустили сегодня сюда. Мне трудно было выносить эту мысль. Но ради Анны я стояла гордо выпрямившись и не сводя с нее глаз. Коль уж она в силах вынести то, что ее предали и покинули, то и я должна держаться.
— Явилась я сюда, — продолжала она, взглянув мне в глаза и кивнув (хотя со стороны могло показаться, что она этим жестом просто подчеркивает значение своих слов), — лишь для того, чтобы умереть и тем послушно исполнить волю господина моего короля.
«Да будет проклят король!» — мысленно пожелала я, сколь бы изменнической ни была эта мысль. Мужчина, даже столь великий, как Генрих Тюдор, не имел права отвергать и казнить женщину, которой он так долго и настойчиво добивался, которая родила ему ребенка — малышку Елизавету, горячо мной любимую. Чудовищные обвинения против Анны были сфабрикованы, но я не смела сказать об этом. Мне хотелось вопить от злости, хотелось броситься на эшафот и спасти ее, но вместо этого я стояла как каменная — благоговение и ужас пригвоздили меня к месту. Но раз уж позади меня не было ни одной живой души, я отважилась поднять руку и показать Анне крошечное сокровище, которое она мне доверила. Возможно, она не разглядит его; возможно, подумает, что я просто помахала ей на прощание, но я все равно сделала так, как хотела, и быстро опустила руку.
— Я молю Бога, чтобы Он хранил короля, — говорила Анна, снова кивнув (я молилась, чтобы то был знак: она увидела, что я ей показывала), — и ниспослал ему долгие годы царствования, ибо никогда еще не бывало правителя более снисходительного и милосердного. Мне он всегда был добрым господином.
Люди в толпе нервно зашевелились, переминаясь с ноги на ногу. Кто-то не смог подавить короткий смешок. Среди присутствующих не одна я знала, что эти постыдные речи — лишь притворство для соблюдения приличий. Разумеется, Анна говорила все это для того, чтобы отвести беду от своей дочери, обеспечить ее будущее, — теплилась слабая надежда на то, что Елизавета сможет унаследовать престол, если у короля не родится законный сын и если католичку Марию[6] не восстановят в былых правах. Елизавета, несчастная девочка трех лет от роду, была объявлена незаконнорожденной. Я мысленно дала себе клятву вечно и преданно служить ей и, если это будет в моих силах, оберегать ее от тиранической власти мужчин. Что ж, хотя бы Анна Болейн отправится сейчас в лучший мир!
Мне снова отчаянно захотелось зажмуриться, но сделать этого я не смогла. За свою жизнь я переживала ужасные события, и разве можно было предотвратить их, убегая или трусливо прячась в угол?
Анна что-то коротко сказала своим фрейлинам, и те сняли с нее накидку. Она отдала им свое ожерелье, серьги, кольцо и молитвенник, я же потрогала пальцем тайный дар, который она преподнесла мне. Анна протянула палачу монету и, по традиции, попросила сделать свое дело быстро, а также простила ему то, что долг обязывал его исполнить.
Потом она опустилась на колени и поправила свои юбки. И даже помогла одной из дрожащих фрейлин надеть на нее повязку, которая закрывала глаза осужденной. Женщин оттеснили в сторону, и они разрыдались. Затем над толпой повисла мертвая тишина, только время от времени доносились крики чаек, свободно паривших над Темзой. Я вдруг осознала, что затаила дыхание, и резко выпустила воздух из легких, боясь, что начну задыхаться, как гончая после долгого бега.
Обнажая шею, Анна высоко вскинула голову, словно ее снова венчала корона святого Эдуарда[7], — как в тот день, когда ее короновали в Вестминстерском аббатстве. Потом Анна быстро стала повторять:
— Господи Боже, смилуйся надо мной, прими душу мою, Господи Боже…
У меня мелькнула мысль: думает ли она в лихорадке этих последних мгновений о малышке Елизавете? Я подавила резкий всхлип, подумав о том, что крошка никогда не сможет вспомнить, как выглядела ее мать. Я хотя бы успела немного повзрослеть, прежде чем моя мать умерла, — без сомнения, она была, как и Анна, убита, дабы другая женщина смогла завладеть ее мужем. И перед моими глазами поплыли воспоминания о смерти моей матери — смерти столь же ужасной, насильственной…
— Господи Боже, смилуйся надо мной, прими душу мою, Господи Боже, смилуй…
Палач взял лежавший на соломе длинный серебристый меч и нанес один молниеносный удар. Толпа вздохнула, кто-то пронзительно вскрикнул. Хрупкое тело Анны упало, залитое потоками крови, а палач показал толпе голову, еще шевелившую губами. Пораженная ужасом, я вдруг представила себе, что в самый последний миг она хотела крикнуть: «Господи Боже, смилуйся над дочерью моей!»
Графство Девон близ Дартингтона, 4 апреля 1516 года— Помилуй, Господи, душу ее. Умерла, — проговорил отец, обращаясь к нам обеим. — Боже милостивый, сжалься над ней.
— Мама! Мама! Проснись, ну пожалуйста, проснись! Возвращайся, пожалуйста! — Я звала ее не переставая, кричала, брызгала ей в лицо речной водой, до тех пор пока отец не встряхнул меня хорошенько за плечи.
— Прекрати! — приказал он.