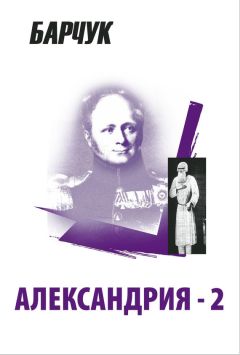Дмитрий Барчук
Александрия‑2
© Д. В. Барчук, 2005
© ООО «Печатная мануфактура», 2005
* * *
Не кляните, мудрые. Что вам до меня?
Я ведь только облачко, полное огня.
Я ведь только облачко. Видите: плыву.
И зову мечтателей… Вас я не зову!
Константин Бальмонт
Сибирь. Мариинская тайга. Март 1855 года
Смеркалось. Мартовское солнце за день прогрело студеный сибирский воздух, но стоило светилу зайти за косогор, как сразу от наступающей весны не осталось и следа. Стало зябко и неуютно.
– Остановись-ка, любезный, – велел ямщику купец второй гильдии Семен Феофанович Хромов и, обратившись к своему пожилому спутнику в сильно поношенной черной шинели путейского инженера, добавил: – Где-то здесь его новая келья. За этой горкой уже обрыв. Там Чулым. А вот и густой кустарник, про него нам сказывали в Красной Речке. И тропа с дороги свернула. Куда ей вести еще, как не в келью к старцу?
– А ты не ошибаешься, Хромов? Смотри, как ее перемело. Видно, здесь давно уже никто не ходил.
Старик-путеец говорил как-то чудно, произнося каждое слово отдельно, а не как обычные люди.
– Чему удивляться, Гаврила Степанович, сейчас же Великий пост. Федор Кузьмич всегда так делают. Наберут сухарей на все семь недель и молятся в уединении, чтобы им никто не мешал. Вот и не выходят с заимки. Хотя нынче, мужики в деревне сказывали, нарушил он свое заточение. Когда панихиду по императору Николаю в церкви служили, он пришел. И откуда узнал в таежной глуши, что государь отдал Богу душу? Весь молебен отстоял, а потом еще долго молился в сторонке. Истину говорят – святой человек Федор Кузьмич! – говорил купец, прокладывая себе путь по занесенной снегом тропе.
– А ты сам-то, Семен Феофанович, веришь, что это царь? – напрямик спросил Хромова человек в инженерской шинели, стараясь ступать по следам первопроходца.
– Царь не царь, но человек это не простой. Люди сказывают, что это беглый кержацкий патриарх. Но мне сдается, что это и есть император Александр I. Уж больно Федор Кузьмич на него похож.
– Ладно. Сейчас мы твоего таинственного старца выведем на чистую воду. Я, Феофанович, с Александром Павловичом Романовым был знаком лично. И когда с французами воевали, и потом, когда служил у Сперанского в Сибирском комитете и у Аракчеева в совете по военным поселениям, встречаться доводилось. Только сказки это все, Хромов. Не могут цари жить хуже ссыльных. Не царское это дело. Про это я тебе и в Томске говорил. И сейчас скажу: нечего было тащиться за таким пустым вопросом в этакую даль. Нос морозить.
– Да не ворчи ты так, Гаврила Степанович. Все равно по дороге на мой прииск. Ты же сам хотел посмотреть, как золото сейчас добываем. Зря, что ли, я перед полицмейстером за тебя хлопотал? Он бы тебя из Томска не выпустил на целую неделю. Пришли уже. Вон она – старцева заимка! – радостно воскликнул Хромов, показывая на деревянную избушку, прилепившуюся к горе у самого обрыва.
Над трубой поднимался слабый дымок.
Хромов постучался, но, не услышав ответа, потянул на себя дверь. Она легко отворилась. Отодвинув в сторону висевшую кошму, путники вошли внутрь.
– Бог помощь, хозяин! – сказал купец, закашлявшись.
Печка сильно дымила, и у него перехватило дыхание. Его попутчик даже не успел толком рассмотреть убранство лачуги. Со свету глаза не сразу привыкли к полумраку. Вечерние сумерки едва проникали в келью через маленькое окошко. И только икона Спасителя, висевшая под потолком в красном углу, была освещена еле чадящей лампадкой.
– Здравствуйте, люди добрые, – ответил с лавки ласковый голос.
Путейцу он показался до боли знакомым.
– А кто это с тобой, Семен Феофанович? – спросил поднимаясь со скамьи старец.
Но Хромов ответить не успел, ибо гость сам поспешил представиться:
– Гавриил Степанович Батеньков, политический ссыльный из Томска.
Отшельник вздрогнул и какое-то мгновенье находился в сомнении: либо ему вставать с лавки, либо снова лечь.
– Вам плохо, Федор Кузьмич? – поспешил на помощь старцу купец.
– Занемог третьего дня. Погода скверная. То оттепель, то мороз. Вот и прихватило, когда дрова рубил.
– Сколько раз уже говорил вам: хватит себя истязать в этой глуши, – причитал Хромов. – Переезжайте лучше жить к нам в Томск. Там хоть доктора есть. Подлечат, коли совсем туго станет. А жена и дочь мои как будут рады вас принять! Они обе в вас души не чают.
Старец не ответил, а сунул ноги в валенки и, поднявшись со скамьи, пошаркал к столу.
– Кроме чая и сухарей ничего вам предложить не могу. Я не ждал гостей, – извинился он.
– Не извольте беспокоиться, батюшка Федор Кузьмич, – засуетился Хромов. – Мы, как солдаты, все свое носим с собой. Мы вам сами гостинцев привезли. Вот: свечи, масло для лампадки, спички, соль, сахар, чай, сухари… Моя хозяйка Наталья Андреевна даже кофею положила. Наказала передать вам от ее имени. Вы бы хоть рыбки поели, а то совсем отощали.
– Зачем ты меня пытаешься совратить, Хромов? Знаешь же, что я рыбу ем только по праздникам.
Старец подошел к печи, подкинул в топку дров. Из кадки зачерпнул полный ковш воды и вылил ее в закопченный чугунок.
– На печи вода быстрее закипит, чем в самоваре, – пояснил он и, обратившись к стоящему в дверях путейцу, добавил: – А вы что стоите? В ногах правды нет. Садитесь, подполковник.
Федор Кузьмич повернулся в сторону гостя и выпрямился во весь рост. Он стоял подле печи в длинной – ниже колен – холщовой рубахе, перетянутой узким ремешком. Большой палец правой руки он заткнул за пояс, а левую руку прижимал к длинной и белой как снег бороде.
Батеньков потерял дар речи.
Первым прервал неловкое молчание отшельник.
– За гостинцы тебе и твоей хозяйке, Хромов, спасибо. А ты сейчас на прииск или с прииска?
– Туда, – купец показал в сторону Ачинска.
– Значит, через пару дней в обратный путь. Тогда у меня к тебе есть предложение. Ты своего товарища оставь пока у меня, а будешь ехать домой – заберешь.
– Но, батюшка Федор Кузьмич, Гаврила Степанович хотел посмотреть, как золото добывают.
– Еще будет время, посмотрит. А вы как считаете, подполковник?
Батеньков утвердительно кивнул головой.
Хромов был человек воспитанный, хотя и крестьянских кровей. Он понял, что его присутствие на заимке сковывает двух стариков, которые явно были знакомы в прежней жизни, им хотелось поговорить наедине.
Сославшись на позднее время, он откланялся, а, добравшись до саней, приказал ямщику не жалеть лошадей. Чаю он попил только в Ачинске, на постоялом дворе, где и заночевал, так и не добравшись в этот день до своего прииска.
– Вы? – не веря собственным глазам, прошептал Батеньков.
Старец закрыл за купцом дверь и обернулся к гостю.
– Вот и свиделись, подполковник. Вы удивлены?
Но старый декабрист не ответил. Его глаза налились кровью. Седые патлы на голове ощетинились, как грива у льва перед схваткой. Он сжал кулаки и грозно двинулся на отшельника.
– Проклятый святоша! – процедил он сквозь зубы. – Что же ты натворил, венценосный мерзавец? О Боге вспомнил, грехи замаливаешь! У самого кишка оказалась тонка, ты, значит, братца на расправу подставил! Ох, хитер, Иуда!
Федор Кузьмич, не шелохнувшись, смотрел на надвигающегося мстителя из прошлого и даже не думал сопротивляться.
– Побойся Бога, Гавриил! – только и произнес он, указывая на иконы.
– Поздно мне о Боге думать, Ваше ничтожество! Даже твой любезный братец Николай-вешатель – и тот двадцать лет зря потратил на воспитание во мне христианского смирения. Ты даже не представляешь, каково это просидеть полжизни в одиночной камере, света белого не видя. Только чадит одна фитильная лампадка. Но сейчас ты мне ответишь за все: за смерть товарищей, за тюрьму и каторгу, за разграбленную и униженную вашей семейкой страну!
Путейский инженер был хотя и ниже ростом, но коренастый и жилистый. К тому же у него было еще одно неоспоримое преимущество – возраст. Пятнадцать лет разницы – это большая фора. Особенно, когда одному – семьдесят семь, а другому – всего шестьдесят два.
Но первый удар декабриста не достиг цели. Его кулак, нацеленный прямо в переносицу старца, прорезал пустоту. Человек в черной шинели не удержал равновесия и упал на охапку дров, раскидав их по всей келье. Он поднялся, потирая рукой ушибленное колено, и произнес:
– Ловко, Ваше ничтожество. Я смотрю, ты времени зря не терял. Кое-чему крестьянская жизнь тебя научила.
Он сделал еще один выпад в сторону старца. И вновь холщовая рубаха, как тень, увернулась от черной шинели.