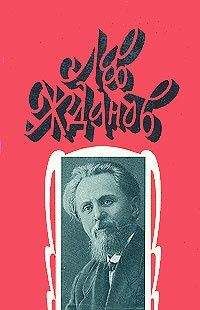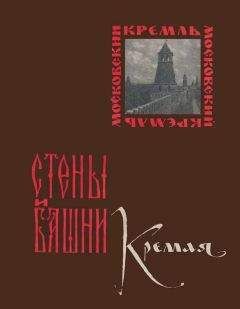Часть первая
ИЗ ТЕРЕМОВ НА ТРОН
Светлый морозный день занялся над престольной Москвой, над Кремлем великокняжеским.
Круглым багровым щитом из-за зубчатых далей заречного бора показалось зимнее солнце. В пурпур и золото одело оно шатры пушистого инея, покрывающего вершины деревьев и кустов.
Косые красноватые лучи, первые вестники короткого, безрадостного дня оставляют в сизом тумане, в густой тени, бегущей от векового бора по самой земле, все посады и пригороды, какими широко раскинулся на семи холмах этот огромный людской муравейник.
На самом высоком из холмов белеет Кремль. И легкие стрелы лучей раньше всего проникают в узкие бойницы его, словно пронизывая надежные стены и башни, охраняющие сон и покой московских храмов, палат и теремов великокняжеских.
Пробиваются алые лучи и в небольшие оконца великокняжеского дворца, хотя слюдяные оконницы в них наполовину затянуты льдистыми узорами, полузанесены снегом.
Только одно окно в самом обширном покое дворцовом совсем раскрыто настежь, несмотря на сильный мороз.
Невысокая, но большая горница полна народу. Людно и шумно в соседних покоях. Слышен говор и топот, и снуют челядинцы по всем лесенкам и переходам дворцовым. В женских теремах, несмотря на ранний час, тоже заметно особенное движение, словно переполох какой или ожидание чего-либо особенного, важного.
В обширном покое, полном людей, на постели под парчовым пологом умирает Василий Иваныч, великий князь и царь московский и всея Руси, как он стал себя величать по примеру отца, Иоанна III.
Месяца два с половиной тому назад, 22 сентября 1533 года, выехал Василий из Москвы на охоту к Волоку-Ламскому. Дней через пять появился у него на левом бедре небольшой нарыв, который стал быстро углубляться. Скоро открылся "антонов огонь". Ни разрезы, ни прижигания не могли остановить страшной "порчи". Наконец, врачи, день и ночь не отходившие от царя, увидели первые признаки заражения крови, первые знамения близкого конца.
С пути, конечно, Василий поспешил на Москву.
И вот лежит он исхудалый, потемнелый лицом, с пересохшими губами и ждет смерти. Настежь раскрыто одно из окон покоя, обращенного в опочивальню для больного. Сам Василий меховыми одеялами, периной и двумя шубами прикрыт. Но и под ними весь дрожит порою от внутреннего озноба, которым сменяются приступы горячечного жара.
Другие, сидящие и стоящие здесь, все — в шубах, в теплых охабнях и меховых кафтанах. Кто имеет право, тот не снимает горлатных шапок. Духовенство — в скуфьях и клобуках. На восточных царевичах и беках, которых немало проживает при московском князе, — их чалмы, тюбетейки и мурмолки. На стариках боярах тапочки, вроде ермолок, как они и дома ходят.
Тепло одета и молодая жена умирающего Василия, красавица литвинка Елена Глинская. Подавляя рыдания, прислонилась она к изголовью больного.
Старший сын, княжич Иван, хорошенький, темноглазый мальчик трех лет, в собольем кафтанчике, в шапочке с дорогим пером, — стоит позади матери, совсем прижавшись к коленам своей мамушки — Аграфены, Челядниной по мужу, а из роду князей Оболенских. Она — сестра родная тому самому князю Ивану Овчине-Телепню, которого дворцовая молва давно уже нарекла ближним любимцем и князя и княгини.
Этот молодой, высокий красавец князь стоит тут же, у самого ложа Василия, как его постельничий.
У ног князя в широком, удобном кресле сидит митрополит Даниил в мантии, в белом своем клобуке, во всем облачении, так как предстоит, может быть, тут же посхимить Василия в миг его кончины.
Хотя и довольно тесно в покое, но все же бояре, князья и воеводы, наполняющие его, разбились как бы на стаи. Оба брата Василия, Юрий Димитровский и Андрей Старицкий, удельные князья, Михаил Юрьев Захарьин, ближний советник Василия, затем печатник (канцлер) и наперсник великокняжеский, Иван Юрьич Поджогин, да Михаил Глинский, дядя Елены, — эти пятеро сгрудились у самой постели больного.
За ними, ближе к окнам, второй кучкой, видны князь Федор Мстиславский, князь Иван Кубенский, князь Вельский Иван, Вельский Димитрий Федорович, — все близкие по крови и по свойству Василию; за ними бояре, братья родные Василий и Даниил Воронцовы, князь Дорогобужский, боярин Владимир Головин, хранитель большой государевой казны Михаил Поджогин, брат Шигони, да еще два ближних дьяка царских, Потата и Рак Феодорик. У стены, за пологом, стоят в тени, хмурые, словно напуганные чем-то, два иноземца-лекаря, Феофил и Николка Люев. Третий, гетман Ян, с казацким чубом, покручивая длинный ус, — тоже закручинился и прислонился к резному столбу, который поддерживает полог над кроватью больного.
Все силы истощили лекари, испробовали все средства. Болезнь победила. Державный больной умирает. И, может статься, как в старину рабов на тризне, как раньше коней резали, зарежут после смерти Василия и его врачей, не сумевших доказать, что они — сильнее природы и смерти. Давно ли так был зарезан отцом Василия лекарь, не сумевший спасти приезжего принца, гостившего при московском дворе…
Два брата, князья Шуйские, Иван и Василий Васильич, сторонники князя, стоят за плечом княгини.
Отделясь от великокняжеской стаи, своим гнездом сгрудились других два брата Шуйских, Андрей и Иван Михайлович, строптивые, крамольные бояре, "бегавшие" на поклоны к Юрию в Дмитровск, недавно только вызванные на Москву, вместе с Михаилом Семеновичем Воронцовым, стоящим тут же. Теснятся к ним и бояре, князья из свиты обоих удельных князей, Юрия и Андрея: братья Вельские, Семен и Иван Федорович, князь Иван Михайлович Воротынский, князь Ляцкий, того же роду Кошкиных, что и первосоветник Василия, Михаил Юрьевич, но по духу не схожий с смирным, прямым стариком.
Князь Димитрий Палецкий, князь Пронский Федор Григорьевич, князь Юрий Андреевич Ленинский, роду Оболенских, только из Старицы, воевода удельного князя Андрея, с братом Иваном и еще несколько бояр и воевод не так знатных родом — стоят особой стаей, в глубине покоя, ближе к выходу, переговариваются негромким шепотом, поглядывают то на Василия, то на дверь, где в соседнем покое видны еще группы дворцовых ближних людей, боярыни, сопровождающие из терема на царскую мужскую половину княгиню Елену, мамки, няньки и мелкая челядь дворцовая, монахи-богомольцы из кремлевских обителей и попы.
Вот Василий, лежавший в легком забытьи, пришел в себя.
— Не изопьешь ли? Легче станет, — осторожно склоняясь к больному, предложил Люев, принимая чарку с лекарством от Феофила, державшего ее наготове.
— О-о-ох… все едино… Силы бы маненько… О-стан-ный… час… мой… Надоть еще… при… казы… дать, — невнятно пробормотал больной.
— Выпей, сил прибудет, государь!
Елена, уловив движение больного, осторожно приподняла ему голову, и с трудом, расплескав часть напитка, проглотил Василий лекарство Люева.
По всему покою прошел сильный запах индийского мускуса и еще каких-то пахучих снадобий. Неподвижный, слабо, но порывисто дыша, молча пролежал князь несколько мгновений. Наконец, дыхание стало ровнее. Глаза раскрылись. Полное сознание светило в них. Мощная, привычная к вечной работе мысль словно не мирилась с омертвением тела и властно и жадно хотела жить.
— Пить! — спокойнее и более внятно, чем раньше, потребовал больной. Жадно сделал несколько глотков из золотой чарки с освежающим питьем, которую тоже держал наготове лекарь. Затем с благодарностью и любовью перевел глаза на Елену, которая осторожно и ловко помогала ему оторвать голову с подушки, чтобы сделать несколько глотков.
— Все ли тута? — обратился затем Василий к Шигоне. Толстый, неуклюжий боярин весь как-то подобрался, мягко изогнулся и не резко, но очень внятно и покорливо заговорил:
— Как же не всем быть, коли ты приказывал, государь-милостливец! Почитай все опальные съехались… И Михалко Воронец, и княжич Вельский с братаном. Рази кто уж в больно дальних волостях заслан сидит. Да и те не нонче-завтра подоспеют.
— Нет уж… Ныне конец… Видение мне было…
— Видение? — эхом отозвалась первая Елена. И перекатилось по всей вдруг насторожившейся толпе одно это слово: "Видение…"
А Василий сразу, широко раскрыв глаза, устремил их перед собой, словно силился опять вызвать образы, созданные в мозгу игрой горячечного воображения и принятые суеверным князем за весть из другого мира.
— Какое видение, княже? Давно ли оно осенило тебя? — с живым интересом спросил митрополит, склоняясь к больному всем своим сухим, высоким и сильным, несмотря на года, станом.
— Не теперя… После… Дело надоть… А там доспею — скажу, — нетерпеливо ответил больной и, передохнув, позвал: — Аленушка!..
Княгиня поняла, осторожно, с помощью лекаря, приподняла больного и положила подушки так, что он принял подусидячее положение.