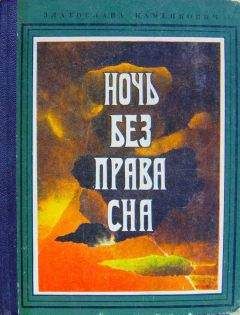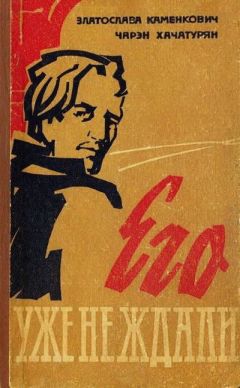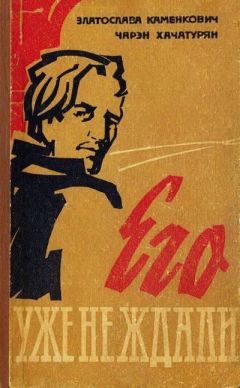Аннуся знает, что после этих слов сердитый пан отведет татуся за глухую железную дверь, и начинает горько плакать…
«И все это придется пережить ребенку моей дочери?» — содрогнулась пани Барбара.
…Давно утих дождь, на улице умолкли голоса прохожих.
Уснула утомленная пани Барбара. Всюду в домах погасли огни. Только в окне Анны светилось. Она одна не могла спать, вспоминая полные счастья дни, прожитые с Ярославом в этой комнате.
Незаметно Анна задремала. Сквозь лихорадочно-тревожную дремоту ей вдруг явственно послышался голос Ярослава. Он звал ее.
«Отпустили! Вернулся! Не зря я ждала!» Анна бросилась к окну, перегнулась через подоконник, до боли в глазах вглядывалась в темноту. Голова пылала, сердце колотилось.
— Славцю!
Никто не отозвался.
— Ярослав! — позвала громче.
Ночь не ответила. Лишь изредка тишина нарушалась падением дождевых капель. Их роняла сонная листва высокого каштана под окном. Несколько раз до Анны долетал приглушенный стук деревянной колотушки ночного сторожа, охранявшего доски на стройке за углом.
— Скорей бы наступило утро…
Озябшая, разбитая, Анна побрела к дивану, легла, с головой укрылась одеялом, чтобы согреться и унять нервную дрожь во всем теле.
Нестерпимо долго тянулась, давила свинцовой тяжестью ночь.
Пани Барбара устало сняла шляпку с белым страусиным пером, бархатную ротонду и села на диван.
— Ну вот я и нашла адвоката. И знаешь, кто это?
Анна вопросительно посмотрела на мать.
— Только подумай, как иногда неожиданно пересекаются жизненные пути людей! Вот уже дважды в трудную для нас годину судьба посылает нам искренних друзей. Помнишь, Аннуся, первый день в эмиграции? Мы стояли в зале пражского вокзала такие одинокие, такие растерянные. Вдруг меня обняла дама в атласе и соболях. Это была Ядзя, моя гимназическая подруга. Припоминаешь? Она увела нас к себе, и мы пробыли там две недели. Как она полюбила тебя! А сына ее, Людвига, помнишь? Штудировал юриспруденцию в Берлине.
— Помню, он тогда приехал домой на вакации…
— Людвиг Калиновский стал адвокатом. О, как он похож на свою покойную мать!
— Так пани Ядзя умерла?
— Да, ее не спасли ни Италия, ни опытнейшие врачи… Бедняжка, как она была несчастна!
— Мне почему-то особенно запомнились ее руки, — задумчиво сказала Анна, — беспомощные, поникшие, как сломанные крылья у птицы…
— Сломанные крылья, — покачала головой Барбара. — Ты это верно подметила, Аннуся. Ядвиге минуло только шестнадцать лет, когда родители насильно выдали ее за нелюбимого человека. А девушка всем сердцем любила твоего дядю — Ярослава Домбровского… Теперь одни это имя произносят с любовью и гордостью, другие с ненавистью и страхом….
— Почему ты мне никогда об этом не рассказывала?
— Это чужая тайна. Теперь нет ни Ядзи, ни Ярослава Домбровского, ни старого Калиновского… Ты только подумай, дитя мое, Калиновский был на двадцать четыре года старше Ядзи. Скупой, черствый эгоист. Людвиг ничем не напоминает отца. У Людвига доброе, отзывчивое сердце. Когда я рассказала ему о нашем несчастье, он пообещал сегодня же повидаться с прокурором и узнать, в чем обвиняют Ярослава.
Утром следующего дня Анну не покидало предчувствие новой беды. Она надела платье из голубого лионского атласа, отделанное тончайшими валансьенскими кружевами, купленными еще покойной бабушкой в Варшаве к свадьбе дочери с Зигмундом Домбровским.
В назначенный час мать и дочь стояли у роскошного особняка Людвига Калиновского.
Пани Барбара позвонила. Вышел лакей. Как только она назвала себя, он провел их через маленькую, со вкусом обставленную гостиную в кабинет, а сам пошел доложить хозяину о посетителях.
Огромный кабинет скорее напоминал музей, где коллекционировались исключительно женские портреты. Они висели в позолоченных рамах на стенах, обитых синим бархатом. Солнечный свет, льющийся из огромных венецианских окон, прекрасно освещал эти картины.
— Какое богатство… — прошептала пани Барбара.
Голубой, в белых розах пушистый ковер на полу хорошо гармонировал с мебелью в стиле рококо. У противоположной от входной двери стены — несколько невысоких шкафов, наполненных книгами в кожаных переплетах. Перед одним книжным шкафом — письменный стол, на нем — миниатюрная мраморная композиция: прикованный к скале Прометей и орел. В протянутой руке Прометея — факел. Герой древней легенды как бы отдает людям огонь, свет, счастье.
— Какое чудо… Какие дивные картины! — восхищалась пани Барбара.
— Мама, почему он заставляет нас так долго ждать?
— О Езус-Мария! — вполголоса воскликнула пани Барбара. — Ты должна сдерживать себя. Я уверена, он нарочно задерживается, чтобы дать нам возможность полюбоваться его коллекцией. Это очень любезно с его стороны.
Но она ошиблась. Хозяина дома задерживало другое — неприятный разговор с управляющим Любашем.
— Ваш компаньон очень беспокоится, что участок уплывает из рук, — докладывал Калиновскому управляющий. — А без новых скважин мы не сможем выполнить контракты, придется платить огромную неустойку.
— Пока что у меня свободных средств нет, пан Любаш.
Управляющий удивленно вскинул брови. «Не верит, — подумал Калиновский. — Да и кто этому поверит?»
— Если до следующей субботы мы не уплатим, участок продадут, — напомнил управляющий.
— Хорошо, я подумаю. Когда вы уезжаете в Борислав?
— Завтра.
— Перед отъездом непременно загляните ко мне.
Пан Любаш поклонился и вышел.
Калиновский затянулся сигарой. Скрестив на груди руки и вперив злой, неподвижный взгляд в портрет своего отца, Людвиг думал: «Моралист! Гордишься своим хитроумным завещанием? Зажать человека в такие железные тиски! А если я не хочу жениться? Дорожу свободой! Но желаю плодить детей! Старый идиот, в какое положение ты меня поставил! Все думают, что я — миллионер, а у меня сейчас — ни гульдена за душой».
Старый Калиновский хотел видеть своего сына знаменитым адвокатом. Но с каждым днем все более и более убеждался, что Людвиг не оправдывает его надежд.
С огромной славой выиграв несколько трудных процессов (они обошлись Калиновскому-отцу недешево), Людвиг неожиданно потерял интерес к адвокатской карьере. Он увлекся живописью и коллекционированием картин. На смену этой страсти пришли кутежи. Мотовство сына приводило Адама Калиновского в отчаяние. Опасаясь, что Людвиг пустит по ветру все состояние и, кроме того, мечтая о вечном процветании фамилии Калиновских, старик перед своей смертью составил хитроумное завещание. В нем говорилось, что до женитьбы Людвиг ежегодно будет получать тридцать тысяч гульденов от Львовского акционерного банка, а после женитьбы — тридцать процентов от всего капитала, хранящегося в венском «Акционгезель-шафтсбанке». Старик, конечно, и мысли не допускал, что его сын может жениться на бесприданнице.
Остальное состояние миллионер завещал будущему внуку, продолжателю рода Калиновских. Опекуном назначался Людвиг Калиновский, которому представлялось право пустить в промышленный или торговый оборот весь завещанный его сыну капитал.
Деньги на свои личные нужды Людвиг мог брать только из суммы прибылей. Когда же внуку исполнится восемнадцать лет, весь капитал делится на равные части между Людвигом Калиновским и его сыном.
Старый Калиновский был дальновидным. В случае банкротства Людвига внуку крах не грозил. При оформлении опекунства на имя наследника в «Акционгезельшафтсбанке» неприкосновенными оставались три миллиона, которые банк обязан был выплатить наследнику в день его совершеннолетия.
«Старый кретин! Думал, что все предвидел. А до того додуматься не мог, что сын его окажется бесплоден…»
Пани Барбара Домбровская и Анна не могли знать, что у хозяина этого дома было заведено правило: всех посетителей слуга заводит в кабинет, а сам выходит доложить…
В кабинете посетители сначала рассматривают картины, обстановку, а потом беседуют о своих делах, иногда и о таких, в которые не хотели бы посвящать адвоката. Тем временем Людвиг Калиновский незримо присутствует в этом же кабинете. Он отлично видит посетителей и слышит их разговор.
Вот и сейчас из соседней комнаты сквозь замаскированное в картине отверстие он наблюдает за родственницами мятежного генерала, который еще так недавно командовал бунтовщиками, захватившими на время власть в Париже.
Знаток женской красоты, Калиновский из своего тайного укрытия смотрел на Анну, как на чудесное видение, боялся пошевелиться, чтобы видение это не исчезло.
«Вот какой стала эта Аннуся… — не верил своим глазам Калиновский. — Хотя… покойница мать моя пророчила, что через несколько лет эта девочка будет самой красивой невестой во всей Австрии. Какая грация в каждом движении!»