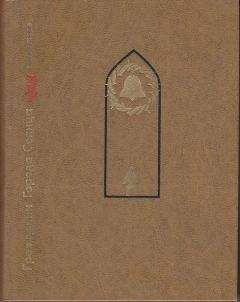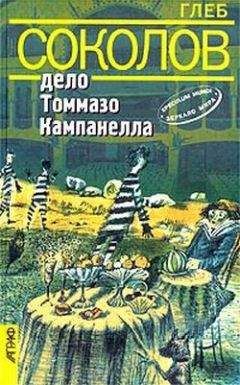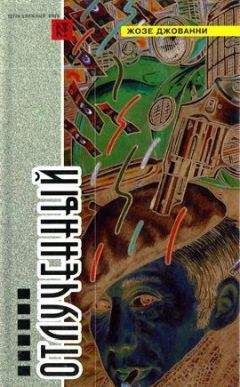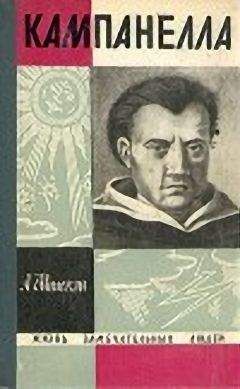Неужели у него в жизни никогда не будет такой девушки, которая так же позволит ему подойти к себе, как позволила парню та, что пляшет сейчас? Вот они пляшут теперь рядом. Парень наступает, девушка отступает, но недалеко. Вот она пляшет, почти слившись с ним. Стан ее выгибается, она откидывает назад голову, ее черные косы метут землю, дрожь ее тела сливается с музыкой, которая стала еще тревожнее, почти нестерпимой стала. Судорога проходит по гибкому телу плясуньи — музыка обрывается. Джованни очнулся от наваждения.
— Щекотка дьявола! — гневно сказал доминиканец. — Вставай, обувайся, идем!
Тяжело, не выспавшись, шагать в полной тьме по каменистой дороге. Но наставник неумолим. Он влечет за собой Джованни, а музыка, разбудившая их, звучит в ушах его питомца, и девушка с черными косами пляшет перед его глазами в ночной черноте.
Все на свете кончается. Кончилась и эта дорога. Они дошли до известной доминиканской обители, куда наставника привели дела и где он хотел показать Джованни, что такое большой монастырь. За время пути в душе у Джованни что-то перегорело. Отошло все пестрое, непонятное, манящее, что встретилось на дороге, все, что жило в сытном и хмельном чаду харчевни, в дерзких россказнях, в ночной пляске. Все это, грешащее языком, глазами, кожей, всей плотью, — не для него. Ему так не есть, не пить, не плясать. Он избрал иную долю, сулящую не скоротечные радости на земле, а вечное блаженство в райских кущах под сладостное пение серафимов. Почему же так грустно ему, почему так смутно на душе?
Перед воротами монастыря, куда они держали путь, Джованни увидел странное, пугающее зрелище. Некий человек, почти обнаженный, с пучком розог в руке, валялся в пыли перед монастырскими дверьми и, не поднимая головы, с трудом выговаривая слова, хрипя и запинаясь, произносил покаянную речь.
— Кто это? — спросил Джованни.
Наставник нахмурился, вопрос был ему неприятен. Впрочем, даже хорошо, что ученик его узнает сразу, как наказываются прегрешения монашествующей братии. Полуобнаженный, который кается, валяясь во прахе, содеял тягчайшее преступление — отрекся от ордена, пояснил наставник.
— Вначале такому грешнику провозглашается анафема, и он изгоняется из обители. Его отсекают, как гниющий член, способный заразить тлением все тело. Но обычно такой человек недолго живет потом в миру.
— Почему? — спросил Джованни.
— Кара небесная! — ответил наставник. Он не стал говорить, что эта кара нередко воздается земными руками. — Такой грешник, отрекшись от святого обета, не находит покоя в мирской жизни, мечется, всего страшится. Отвергнутый небом, он не принят миром. И если не погибнет сразу, то, подобно полураздавленной гадине, приползет к стенам обители, будет молить снять с него проклятие, восприять его снова в святые стены. И если ему будет оказана величайшая милость прощения, он еще целый год будет появляться в капитуле с обнаженной спиной, открытой для бичевания.
Они сидели в небольшом, дивно возделанном монастырском саду в тени старых грабов. Ровные дорожки, затейливо выложенные камушками, были обсажены кустами темно-красных и лилейно-белых благоухающих роз. Пышно цвели олеандры. Солнечные блики лежали на блестящих листьях магнолиевых деревьев. Огромны были их восковые цветы. В теплом воздухе гудели быстрые пчелы, и так же, как пчелы, хлопотливы были оборванные работники, трудившиеся в саду. Все дышало благолепием и покоем. Тем страшнее был вид человека, все еще валяющегося в пыли перед запертым входом, хрипло вопиющего о грехах своих, жалостно молящего о прощении.
— Запомни то, что ты видишь! — строго сказал наставник. — Смотри, сколь подобен он шелудивому псу, вымаливающему ласку у хозяина, которого посмел облаять.
У них было время для разговора. Настоятель занят. Наставник воспользовался ожиданием, чтобы рассказать Джованни о порядках в монастыре.
— Став послушником, ты получишь наставника, — сказал доминиканец. — Он преподаст тебе, сколь благая участь быть монахом. Монахи славят Господа, Пречистую деву и всех святых. Жизнь инока — постоянное восхваление бога и великих милостей его.
Джованни не сдержался и, что не подобало, перебил доминиканца: «Разве не вы отец мой..?»
Монах не дал ему договорить.
— Наставника не выбирают, — сурово ответил он. — Его назначает капитул. Я недолгое время буду еще с тобой. Но ты попадешь в хорошие руки. Послушником пробудешь год. Затем тебе откроются все требования, что орден предъявляет к братии. Если они покажутся тебе непосильными и ты убоишься сей стези, — наставник вздохнул, — если окажется, что я обманулся в тебе, тебя отпустят с миром. Но если за год послушания ты укрепишься в желании избрать монашескую долю, будешь пострижен. Мне хотелось бы, чтобы в монашестве ты принял имя Томмазо, в честь святого Фомы Аквината… Да будет он твоим патроном и вечным примером! Прожив несколько лет в обители, ты сможешь стать странствующим проповедником и отправиться в путь, неся людям слово истины христовой. Другим порогом, который ты одолеешь, когда войдешь в годы, будет разрешение преподавать. Университеты, где ученых из нашего ордена встречают с почтением, есть повсюду. Прозри свою цель, но помни: она лишь малая, низкая, ничтожная ступень для достижения цели более высокой — истинного блага. Скромной будет твоя одежда, когда ты станешь монахом. Будешь носить, как и я, грубое шерстяное одеяние до щиколоток, а под ним другое, доходящее до колен. В нем ты будешь ходить днем и спать ночью, никогда не снимая ни его, ни сандалий.
Джованни поморщился. В родном Стиньяно с головы до ног мылись четыре раза в год, запах грязи и пота был обычен, и люди бы удивились, если бы кто-то попытался избавиться от него. Мыло варилось дома из сала и щелока и отнюдь не благоухало. Но спать, никогда не снимая одежду, не разуваясь? Почему это угодно богу? Впрочем, его наставник тщательно моется, едва представится возможность. Моется, таясь, а потом кается, ибо все, что делает человек в угоду своему телу, — грех.
— И должен ты знать, — продолжал учитель, — что принимать пищу в келье запрещено. Пищу братия принимает только сообща в трапезной, где надлежит соблюдать молчание. Молчание подобает также в кельях и в ораториуме.
— Молчание в ораториуме? — Джованни улыбнулся, а наставник нахмурился: когда говорят о правилах ордена, не улыбаются. — Освобождать от молчания в местах, где предписано немотствовать, не дано никому, даже старшим…
Как он любил поучать, этот человек!
Обнаженное грязное, потное тело кающегося жалили слепни, кожа судорожно вздрагивала, а он все хрипел слова о раскаянии и мольбу о прощении. Наконец двери перед ним отворились, и он вполз на коленях в обитель.
«Почему он прежде отрекся от ордена, а теперь отрекается от своего отречения?» — подумал Джованни.
Время в благоухающей тени монастырского сада текло медленно. Но вот перед пришельцами предстал один из здешних братьев. Он приветствовал их словами: «Да почиет на вас благодать господня!» — и пригласил войти в обитель. Настоятель ждет их.
Джованни испугался. Уж не хочет ли наставник оставить его в этой обители, которая встретила его столь устрашающей сценой покаяния? Но доминиканец сказал настоятелю, что они совершают паломничество, чтобы ученик его присмотрелся к разным монастырям, увидел, как могуч орден доминиканцев. Джованни радовался тому, с каким почтением принимают его учителя. Неужто и ему когда-нибудь будут отворяться двери всех доминиканских обителей, он будет сопричастен ко всему, что значит этот славный орден?
Наступил день, когда наставник разбудил его раньше обычного. Он не выспался, на воздухе его зазнобило. Но утро было солнечным, теплым, прекрасным. Дорога круто шла на подъем. Когда они добрались до перевала, Джованни не сразу понял, что перед ними. Казалось, он видит перед собой два синих неба — одно над головой, другое под ногами.
— «Таласса!» Так радостно восклицали греки, увидев перед собой то, что мы видим сейчас, — море, — сказал наставник. — Бесконечная синева, в которой отражается бесконечная синева неба. В море впадают реки, а оно впадает в океан. Океану же несть конца. Велик и могуществен океан! Но что его величие, что его могущество, что его красота по сравнению с величием, красотой и могуществом создавшего его бога?
Они спускались вниз по крутой тропе, и казалось, что море притягивает их к себе, — эта крутизна спуска заставляла их ускорять шаги. Гибкие ветки хлестали их по разгоряченным лицам. В воздухе все сильнее пахло свежестью и солью.
И вот они на берегу — узкая полоса мелкой гальки лежит под натруженными ногами, она тянется направо и налево, насколько хватает глаз. Перепутанные космы бурых водорослей лежат у кромки воды. От них резко и сильно пахнет. Этого запаха Джованни не забудет никогда, как никогда не забудет этого дня. Волны то плавно накатывают с мягким шелестом на берег, то откатывают от него, оставляя на гальке пузырящуюся пену. Рыбачьи лодки под пестрыми рваными парусами медленно-медленно скользят по воде. Рыбаки вытаскивают сети.