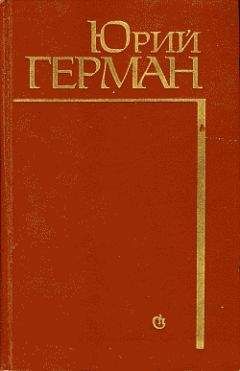– А теперь прощай, Пирогов, – донеслись до него слова Мухина, – от души жалею, что не остался ты у меня до конца моим учеником. Ну что ж, попробуй немцев.
Он положил ему руку на плечо, нагнулся и поцеловал его в губы.
– Прощай, – повторил Мухин, – прощай, брат, не поминай лихом.
Ночью его разбудил дядюшка – по соседству умирал от запоя дядюшкин знакомый чиновник. Шатаясь спросонья, Пирогов оделся и вышел. В убогой комнате, на грязной простыне корчился и стонал несчастный запивоха. Плакали в голос разбуженные суетою дети. Забитая и замученная женщина – жена дядиного приятеля – держала в дрожащей руке оплывающую свечу, пока Пирогов осматривал несчастного. Дядюшка забавлял и тетёшкал детей, а они ревели все громче и громче, пока наконец их не забрали к себе сердобольные соседи.
– Ну что? – спросил дядюшка, подойдя к постели. – Есть ли надежда, Николаша?
Пирогов сердито огрызнулся. Ему было страшно. Пьяница, оскалившись, ловил воздух ртом, стонал и хрипел. Все было искажено в этом отравленном водкою организме, все было неестественно, а главное, вовсе не походило на то, что полагалось находить в таких случаях по книгам.
– Да держите же вы свечку как следует! – крикнул он на женщину, едва стоявшую на ногах от горя.
Дядюшка взял у нее из рук свечку, а Пирогов сбегал к себе за книжкою, но ничего не нашел в ней и послал за цирюльником. Тот пришел мигом со всем своим арсеналом из пиявок и клистира. Это был бравый старик с военного выправкой и плутовским взглядом быстрых глаз. К Пирогову он отнесся с почтением и предложил клистир.
– Верное дело-с, – говорил он, отведя Пирогова в сторону, – у них чижолый завал, от чего они принять могут свой конец. Вы сами извольте ихний мамон пощупать – чистой барабан, слово благородного человека. Разрешите, господин лекарь, клистир?
Пока цирюльник занимался клистиром, Пирогов рылся в своих книгах, но ничего в них не нашел и только совсем запутался. У запойного он обнаружил все признаки бубонной чумы, которой быть никак не могло, просидел возле его постели до самого рассвета, и на рассвете, дрожа от ужаса, проводил его в самый дальний и последний путь. Никогда не видел он смерть так близко и никогда не представлял себе ее такой печальной, бесславной и отвратительной. Ничего не было ни величественного, ни хотя бы благопристойного в этом последнем прощании человека с жизнью. Не слыша воплей вдовы, остановившимися глазами смотрел он на позеленевшее, ужасное, искаженное судорогой страдания лицо покойника до тех пор, пока дядюшка не увел его домой. Но и дома он не мог успокоиться, все вслушивался в далекие крики вдовы, все видел перед собою лицо запивохи еще живым, все винил себя в том, что не нашелся и не вылечил, вскакивал, рылся в книгах, находил какие-то отдельные, разрозненные признаки, чем-то похожие на то, что было у чиновника, опять искал, даже плакал, и так все утро, пока не вошла в его комнату мамаша с чашкой горячего кофея и с булкою.
Уже днем он заснул и проснулся под вечер.
Внизу, в столовой, сидела вдова, серьезная, прибранная, благолепная, и говорила о том, что супруг ее, если бы еще пожил, то устроил бы пожар, что таким жить на свете не для чего, что его бог прибрал вовремя. На спинке кресла висел фрак покойного, вдова поднесла его Пирогову «в благодарность за его труды», как она выразилась.
Пришел портной и забрал фрак перешивать для заграницы, гонорар был как раз кстати.
В день отъезда выдали от университета прогонные деньги, мундиры и шпаги. Сбор отъезжающих назначен был в здании университета в два часа пополудни. Пирогов с матерью и дядюшкой приехал вторым. Когда они вошли, будущий спутник Пирогова голубоглазый историк Шуманский уже шептался со своими родственниками и знакомыми в углу вестибюля.
И Пирогову, и дядюшке, надевшему ради торжественного дня траченный молью вицмундир, и матери, заплаканной и несчастной, – всем троим было неловко, а главное, нечего было уже делать и не о чем говорить.
Молча погуляли по унылому вестибюлю, потом посидели, потом опять погуляли. Дядюшка, коротко вздыхая по своей манере, с нежностью касался рукою локтя Пирогова, советовал не очень перегружать себя науками, беречь здоровье, есть горячее.
– От супа никогда не отказывайся, – говорил он, – щи или лапшовник – это для здоровья очень необходимо…
– И ноги держи сухими, – советовала мать, – и пиво там не пей, рассказывают, будто они все охотники до пива и целыми бочками его глотают.
Он не слушал их обоих – думал о своем, косился туда, где сидел Шуманский с очаровательными своими голубоглазыми и розовыми сестрами, поглядывал, как университетский швейцар распахивал дверь перед непрерывно подъезжающими к университету будущими профессорами, как входили Корнух – гнусавый акушер, бруссэист Сокольский, Шиховский, Редкин, Коноплев…
Ровно в два приехал адъюнкт, профессор математики Щепкин, которому надлежало сопровождать кандидатов до Дерпта. Все вышли во двор. Во дворе уже стояли коляски: ехать полагалось по двое на перекладных. Мухин провожать не приехал.
Возле колясок студентов-кандидатов стояли брички, кареты, дрожки и коляски провожающих. Когда все вышли на крыльцо, появился священник, сказал короткое напутственное слово, благословил отъезжающих и уступил свое место Щепкину, который объявил распорядок пути и от имени кандидатов сказал несколько слов родным и знакомым, всем тем, кто провожал.
– А теперь, господа, с богом, – молвил он в заключение, – подавайте, ямщики…
С грохотом начали подъезжать коляски. Осаживали лошадей у крыльца, в каждую коляску садились по два кандидата, Щепкин кричал «трогай!» – и коляска двигалась вперед по булыжной мостовой под ярким и веселым майским солнцем. Провожающие ехали рядом до самой Тверской заставы. Пирогов переглядывался с матерью, в горле у него щипало, на сердце же было и вольно, и весело, и страшно в одно и то же время. Мать плакала, держа у рта носовой платок, дядюшка бодрился и подмигивал племяннику. Так доехали до самой караулки. Здесь Щепкин велел прощаться. Из караулки вышел дежурный унтер и потребовал бумаги. Мать рыдала навзрыд, да не одна она. Почти все кругом плакали, и у дядюшки на глазах были слезы. Наконец часовой пошел к шлагбауму. Вновь все расселись по своим местам. Зычным голосом унтер крикнул часовому:
– Подвысь!
Шлагбаум пополз вверх, лошади тронули, Москва осталась позади.
Пирогов глотал слезы, отворотившись от своего соседа. Сосед делал то же, отворотившись от Пирогова.
– Дальние проводы – лишние слезы, – все еще не глядя на Пирогова, молвил Шуманский, – развели мокреть, ни проехать, ни пройти…
– Вечная история, когда пускают женщин, – ответил Пирогов, – незачем их пускать на такие дела, одни хлопоты…
Он проснулся, чувствуя себя совсем счастливым, и долго не понимал, где он и что это грохочет и воет над его головой.
Потом не без труда сообразил: вовсе он не дома в Сыромятниках, а в Дерпте, папенька давно умер, в кондитерскую никто его не ведет и не поведет никогда, Арсений Алексеевич – милый художник – тоже умер, и лета нет, а есть осень, и беседка с птицами только приснилась, пора вставать, вон уличный хожалый свистит шесть часов.
Но еще несколько минут он пролежал неподвижно – прислушивался к похоронному пению ноябрьского ветра, к скрипу старых черепиц над самой головой, к размеренному храпу Иноземцева, к шуму дождя – к дерптской осени. Лежал, слушал и думал об отце, представлял себе его добрую и лукавую улыбку и весь его облик слабого человека, его сюрпризы, поездки в кондитерские на линейке и опять добрую, слабую улыбку, – как они вдвоем стоят в новой, только что отстроенной беседочке, как отец гладит его по плечу и говорит ему слова похвалы и уважения, как равный равному, как брат брату, как товарищ товарищу. Так недавно это было, совсем недавно, тоже в его день рождения, и тогда об этом знал весь дом и во всем доме был праздник, а теперь никто не узнает, что сегодня день его рождения, никто не сведет его в кондитерскую, никто не испечет к обеду пирог, никто даже не вспомнит. А папенька говорил тогда:
– Я одобряю в тебе, Николай, черты характера твоей мамаши: ты склонен к занятиям, как она, ты усидчив в нее, ты чувствителен… ну, это, пожалуй что, и в меня…
И так как папенька не умел долго говорить на одну и ту же тему, то он вдруг протянул вдаль руку и сказал:
– Нет, ты только взгляни, как уже и следа не осталось от пожара. Как была Москва, так и есть Москва, а француз уж позабыт, и мы, слава богу, обстроились… Будешь лекарем, как господин Мухин, станешь ездить в карете четверней, оставлю тебе не только свое благословение, но и усадьбу нашу, для лекаря она вполне подойдет, не правда ли?
Посмотрел на сына и добавил с жалостью:
– Только кос ты, Николенька, уж так кос, прямо и не знаю, как бы не повредило тебе. Очки, что ли, купить? И волос тоже… самоварный. Ну ничего, и сам Мухин не первый красавец… Пойдем, сынок, посидим в зале, а то как бы нас с тобою не продуло, ноябрь шутить не любит…