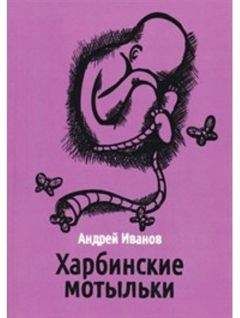— Что-то новенькое, — пробормотал себе под нос. Взял коробочку с пленкой. — Нужна полная темнота.
— Туда, — указал пальцем Тополев в сторону дверцы.
Лицо его горело. Он был напряжен, полон решимости, словно готовилось убийство. Ребров послушно проследовал в комнатку. Уборная. Темнота плотная. Лучше не бывает. Вернулся к столу. Взял аппарат.
— Можно попросить задуть свечу?
— Сколько угодно, — сказал Тополев и задушил пальцами пламя.
Борис закрылся в уборной, легко справился с пленкой:
— Можно зажигать. Готово, — сказал он.
Чиркнула спичка, осветив изумление на лице Левы. Солодов тянул ногу на стуле, покручивая ус.
— Так, — помахивая спичкой, сказал Тополев, — все остаются на местах. Маэстро пойдет со мной, как только придет…
Дверь открылась, вкатился кругленький лысенький толстячок.
— Ну фто? Пофему так долго нет? — залопотал он полушепотом с немецким акцентом.
— Все готово, — сказал металлическим голосом Тополев. — Вас ждали.
— Идемте!
Ребров и Тополев поспешили за толстяком. Он шел совершенно бесшумно (Борис приметил на его ногах мягкие тапки на резиночках). В руке у него поблескивал ключ. Лысина посверкивала в полутьме. Лампочки светили тускло. Коридор сужался. Двери кончились. Лампочки светить перестали. Толстяк остановился перед лестницей, поднял указательный палец и пошел на цыпочках. Тополев предупредительно посмотрел Борису в глаза, перевел взгляд на аппарат, снова в глаза. Борис кивнул. Мягко пошли по лестнице. Ребров прижимал к себе аппарат, бережно и крепко, как драгоценность. Ступеньки таяли под ногами. Все внутри напряглось. Темнота стала непроницаемой. Теперь он ощущал себя в родной стихии. Он шел и улыбался. Два раза ткнулся в Тополева. Грубая шершавая ткань, крепкая кость локтя. Темнота. Левой рукой нащупал стену. Крался вдоль стены. Очень медленно. Слышалось сопение толстяка. От Тополева веяло одеколоном. Встали. Тихонько завозился ключ. Скрипнула дверца. Послышалась придушенная музыка. Мрак шевелился, но по-прежнему не пускал. Борис ждал. Слушал. Толстяка в коридоре больше не было, но Тополев не двигался с места. Приблизилось лицо. Дыхание.
— Опустись на коленки и следуй за мной, — шепотом сказал Тополев, — можешь?
— Попробую, — так же тихо сказал Борис и опустился на коленки. — Могу, — пополз, опираясь на левую руку. Ткнулся головой в мягкое, подождал, пополз, ткнулся в твердое. Рука похлопала его по плечу.
— Сюда, — шепнул Тополев. Борис повернул, вполз в нишу, прополз почти на брюхе по натертому полу. Еще отчетливей музыка, пела, кажется, немка, очень нежно. Да, знакомый перелив. Известная фантазистка. Смех и возгласы. Борис замер рядом с Тополевым, припоминая имя певички. Но глухо билось сердце. Мысль замерла. Память не двигалась. Пение в темноте и смех. Как в кинотеатре, подумал он, вспомнив, как мальчишкой прятался на чердаке «Иллюзиона». Смеялась женщина, и кто-то рычал. За стенкой. Где-то рядом ощущался толстяк, он сопел и очень тихо возился. Кажется, что-то откручивал. Пыль лезла в ноздри. Аппарат в руке стал теплым. Ладони влажными. Брызнул свет. Ivogun, вспомнил Ребров, Maria Ivogun. Тонкая полоска света. Еще одна. Есть. Окошечко. Отчетливо слышался женский визг и хохоток мужчины. Теперь он видел Тополева, толстяка, их напряженные лица. Тополев подманил Реброва к отверстию.
— Смотрите, маэстро. Только не шумите. Смотрите, надо сделать снимки, маэстро!
Борис посмотрел в окошечко и увидел комнату. Они находились где-то под потолком и смотрели на комнату сверху. Это был чей-то будуар. Беспорядок. Атласные ткани. Балдахин. Ковер, подушечки, чулки, штаны… Стол с бутылкой шампанского, бокалами и закуской.
Котелок, трость, подтяжки… Свисала большая люстра, играя отсветами маленьких свечей, которые горели повсюду. По комнате на четвереньках ползал человек. Плешь. Без штанов. В кресле лежала пышная женщина и посмеивалась, размахивая длинной мягкой перчаткой. На голове у нее были перья. Обнаженная грудь блестела, чем-то натертая. Большая толстая грудь. Она раздвинула ноги. Толстяк вцепился зубами в чулок и потянул.
— О-о! — воскликнула женщина и швырнула в него перчатку, выхватила откуда-то маленький мягкий хлыст с кисточкой на конце и шлепнула мужчину по спине. — Не рви мне колготки, пачкун! Ты не заслужил! — оттолкнула его ногой. — Сперва выслужись как следует, грязный мальчишка, а потом притрагивайся ко мне! Ну-ка! Служи!
Мужчина высунул язык и заскулил, бросился к женщине на четвереньках, с урчанием уткнулся в межножье, завозился, ворчливо вылизывая промежность; складки на его затылке отвратительно шевелились. Женщина хохотала и похлестывала его по спине, ягодицам, ляжкам, приговаривая:
— Вот так, песик, вот так! — хлестала легонько и хихикала.
— Снимайте, маэстро, чего вы ждете?
Борис установил локти и приступил к съемке. Боялся, что внизу услышат щелчок. Даже зажмурился. Аппарат сработал бесшумно. Отлегло. Ни одного сухого щелчка. Руки дрожали, на глаз набегала капля. Кругом была пыль. Мужчина откинулся, вскочил, с рыком сбросил с себя остатки одежды и пустился в неистовый дикарский пляс. Потряхивая членом, подвывая, он кружился перед проституткой. Жир на животе колыхался. Он закатывал глаза. Гримаса похоти. Борис сделал несколько снимков. Кажется, поймал. Проститутка гоготала и, подзуживая, легонько хлестала мужчину по чреслам, ягодицам, бедрам, а он проворачивался, гортанно подпевая:
Sehr komisch ist furwahr der Fall!!!
Ja, sehr komisch, hahaha!!!
Ja, sehr komisch, hahaha!!![9]
Подскочил к граммофону, завел пластинку сначала, схватил бутылку и вылил на себя шампанское. Есть! Хохот, пляска. Снова подскочил к проститутке, показывая ей свой вздувшийся орган. Есть!
— Ой, а это что такое? Ну-ка, что это у нас за игрушка?! — воскликнула она, потянула мужчину за член. — Откуда такой зверек взялся?
Ей было не меньше пятидесяти, лицо было сильно накрашено, оно было похоже на маску; и на груди было много пудры, на ногах, на животе… Она держала его яйца, словно взвешивая. Мужчина постанывал, скулил. Вдруг она шлепнула его по ляжке.
— А ну, давай к биде! Сейчас Полина придет. Она не выносит вонючих мальчишек! Давай-ка мойся как следует!
Мужчина с хихиканьем поскакал за ширму. Послышалась вода.
— Сняли это? — прошептал Тополев.
— Да, — еле выдавил Ребров, в горле пересохло, его трясло от страха, омерзения и непонятного возбуждения.
— Ждите, когда снова начнется, и снимайте, не теряйтесь. Нам нужно его лицо. Не щадите пленку, снимайте!
Вошла еще одна женщина, с кандалами и плетью. Она выглядела усталой. Высокая, полураздетая, худая. Прохаживаясь по комнатке, уныло оглядывала разбросанные вещи. Comme une femme de chambre[10]. Пнула ногой подушку, почесалась, зевнула. Другая ей что-то негромко сказала; тощая кивнула. Выскочил из-за ширмы мужчина, бросился к ней:
— По-ли-на!!!
— Иди сюда, негодник! — скомандовала пожилая проститутка. — Ты еще не заслужил хорошего отношения! У тебя совершенно нет манер, гадкий мальчишка! На колени, щенок! Лизать, песик, лизать!
— Давайте, маэстро, давайте! — шипел Тополев. — Не упускайте! И так, чтоб лицо стервеца было видно.
— Мало света, — шепнул Ребров.
— Где ж я вам свет раздобуду, маэстро?
— Вы уверены, что с этой камерой что-то выйдет при подобных условиях?
— Новейшая камера! В Берлине купили! Лучше на сегодняшний день быть не может. Снимайте!
— Света мало, света бы…
Но вышло на удивление неплохо — Тополев был доволен. Обещал заплатить после… И слово сдержал: заплатил десять тысяч марок и снова исчез.
После этой вылазки, как бы случайно, в ателье появился Китаев. Трюде наделала в записях неразберихи, перепутала некоторые заказы; Борис возился, сортировал конверты и вносил записи заново. Свет в ателье потускнел, Борис оторвал глаза от гроссбуха: перед ним стоял щегольски одетый высокий господин с тонкими усиками и большими голубыми глазами невротика. Он был в легком пальто парижского покроя, снег лежал на воротнике, поблескивая. Одной рукой он прижимал к груди шляпу, другой (на пальце перстень с фиолетовым камнем) держал фотокарточку: молодой камер-паж с галунами и прекрасная княгиня в бальном платье. Борис только сейчас понял, что в ушах звенит затихающий колокольчик. Забыл закрыть дверь, подумал он. Увлекся, — ему было жалко Трюде (хотел непременно исправить все). Конец дня. В лаборатории оставались ретушеры, лаборанты, в студии над свадебным альбомом возились художники. Борис взял карточку: камер-паж улыбнулся, глаза княгини посветлели. Скорей всего ее глаза были голубыми. От силы двадцать три. Ему — каких-нибудь восемнадцать. Весь навытяжку. Полная грудь любви. Лосиные рейтузы, ботфорты, шпоры, на сгибе руки камер-паж торжественно держал каску с султаном и андреевской звездой. На оборотной стороне: que Dieu vous benisse.[11]