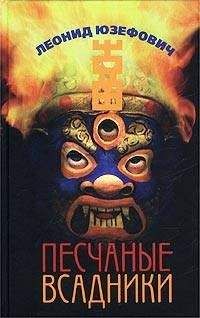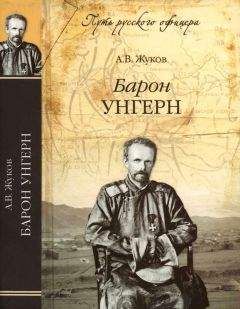— Мать починила, — объяснил Больжи.
Все кончилось после того, как Жоргал разорвал бурхан и пропала кобыла Манька. Ночью покинули Романа Федоровича последние казаки, а чахары, посовещавшись, под утро связали своего вана, посадили его со связанными руками на лошадь и повезли навстречу 35-му кавполку, который уже вырастал на горизонте, раскидывался извилистой цепочкой головного эскадрона, и барону Унгерну показалось на миг, что это не всадники скачут, а бегут по степи тени полуденных облаков.
Рядом, тоже связанного, везли Цырен-Доржи. На его всегда аккуратно выбритой круглой голове отросли и как-то вдруг сделались заметны торчащие, как у чертика, жесткие черные волосы. Поглядев на них, Роман Федорович вспомнил легенду об отшельнике, зло сплюнул скудную слюну. Цырен-Доржи не обратил на это внимания. У его стремени, по пояс в петербургском холодном тумане, шел сиамский принц, говорил, что даже из тех волос, которые Саган-Убугун отрастил за семьсот лет, невозможно сплести мост через эту бездну.
Жоргала чахары отпустили на все четыре стороны, и он, распевая песни, поехал домой, в Хара-Шулун.
А с Чижовым я встретился через два года, когда после демобилизации решил съездить в Ленинград, где ни разу не бывал. Но встретились мы не в Казанском соборе, не под сенью воронихинских колоннад. Я увидел его в одном из тех букинистических магазинов, где обычно вахту несет всего один продавец, и держится он с царственной неприступностью, потому что магазинчик маленький, клиентура постоянная, цены высокие, а картотека имеющихся в наличии изданий лишь отчасти отражает действительное положение вещей. Именно так и держался Чижов — с безмятежным достоинством профессионала. Был семьдесят второй год — золотой век букинистической торговли, но тогда я этого не понимал. Чижов казался мне Адамом, изгнанным из райского сада науки. Я никак не ожидал увидеть его здесь, вернее, увидеть в таком качестве и все-таки узнал сразу, едва вошел в магазин. Все с той же острой светло-рыжей бородкой, напоминающей ломтик дыни, в сатиновом халате и нарукавниках, он говорил какой-то нервной седовласой женщине, которая порывалась пройти за прилавок и посмотреть книги на полках:
— Нет. Я сам покажу все, что вас интересует.
Я узнал его сразу еще и потому, что думал о нем.
— Разрешите взглянуть вон ту книжку, — попросил я, указывая на верхнюю полку.
Чижов полез по стремянке, достал, положил передо мной. Дождавшись, пока он спустится, я потребовал соседнее издание. Чижов полез опять. Мое лицо не вызывало у него никаких воспоминаний. К тому же я был в штатском.
— Еще, пожалуйста, вот эту…
Я интересовался книгами, расположенными исключительно на самой верхотуре. Труднодоступными.
Чижов недобро покосился на меня, но промолчал. Поволок стремянку в указанном направлении. Он бы и рад был, наверное, пустить меня за прилавок, однако рядом стояла та женщина, которая сама туда просилась и получила отказ.
— Вот видите, — злорадно сказала она. — Вам же было бы легче работать.
Чижов не удостоил ее ответом — он тянулся за книгой. Стремянка опасно раскачивалась на неровном полу. У меня возникла надежда, что он, может быть, упадет. Это был бы лучший вариант. Но Чижов не упал. Протягивая очередной том, спросил:
— Молодой человек, вы нарочно разыгрываете спектакль перед дамой? Она же не подходит вам по возрасту,
— Хам! — сказала женщина и ушла, хлопнув дверью.
— Вы меня не узнаете? — Я чувствовал себя графом Монте-Кристо, явившимся из небытия, чтобы отомстить. — Семидесятый год. Краеведческий музей. Помните лейтенанта, у которого вы взяли амулет с Саган-Убугуном?
— К сожалению, не помню, — сказал Чижов. — Что-то будете брать из этих книг?
— И не подумаю, — нагло улыбнулся я.
Он спокойно убрал всю груду под прилавок.
— Что вас еще интересует?
Был, конечно, соблазн погонять Чижова по полкам, пока не вспомнит, но я вовремя раскусил его хитрость. Та женщина ушла, и попроси я еще какую-нибудь книгу, он тут же пригласил бы меня пройти за прилавок.
Я склонился к самому лицу Чижова:
— Жду вас на улице…
По-прежнему накрапывал дождь, туманил витрину, где лежали раскрытые на титульных листах старые книги — девятнадцатый век, начало двадцатого. Дождь был гораздо старше. Я встал так, чтобы держать под наблюдением оба входа, парадный и служебный. До закрытия магазина оставалось минут сорок. Приятно было думать, как все эти сорок минут Чижов будет маяться ожиданием. Я запросто мог его отлупить — был выше, крепче и, главное, моложе. Не в том смысле моложе, что ловчее, реакция лучше, а так, безответственнее.
Чижов вышел уже около восьми часов — надеялся, видимо, что мне надоест ждать. Заметив меня, быстро зашагал в сторону Невского. Я двинулся за ним. Сразу догонять не стал, чтобы он дольше помучился. Несколько раз Чижов оглядывался, замедлял шаг, хотел остановиться, выяснить отношения, но так и не остановился, а на Невском даже сделал ряд попыток стряхнуть меня с хвоста. Он залетал в гудящие, простроченные треском бесчисленных кассовых автоматов магазины, нырял в толпу, выныривал, однажды перебежал проезжую часть на красный свет, но все в пределах нормы, со стороны не подумаешь. Чижов, похоже, сам внушал себе, что просто он торопится, просто заглядывает по пути в магазины. Ближе к центру толпа густела, словно каша, из которой выпаривается вода. Я не отставал, наслаждаясь этой гонкой по огромному, чужому, залитому огнями мокрому городу. Шел за Чижовым по пятам, как 35-й кавполк за бароном Унгерном. Шел и, подогревая себя, мстительно бормотал: «Вы шулер и подлец! И я вас здесь отмечу, чтоб каждый почитал позором с вами встречу…»
Внезапно Чижов метнулся на край тротуара, взмахнул рукой. Зеленый огонек прижался к обочине. Чижов сел в такси, хлопнул дверцей. Огонек погас. Я едва успел вскочить на заднее сиденье, когда машина уже тронулась.
Водитель притормозил.
— А вам куда?
— Туда же, — сказал я.
Чижов даже головы не повернул. На месте он расплатился сполна. Я платить не стал — денег оставалось на обратный билет, на носки для деда и на то, чтобы пару раз поесть в диетической столовой. Мы вылезли одновременно. Машина уехала, шум дождя сделался слышнее. Может быть, это шумело море. Вроде бы мы находились на Васильевском острове. На доме висела табличка с надписью «…линия», а из художественной литературы я знал, что улицы называются линиями, как в дачном поселке, только на этом острове, где когда-то жили булочники, аптекари и Александр Блок. Рядом сиял стрельчатыми окнами большой гастроном. Мы стояли в луже друг против друга, и я не знал, что говорить. Мелодия разговора звучала во мне, а слов не было.
— Да нет у меня вашего амулета! — не выдержав, заорал Чижов. — Честное слово, нет!
— Где же он?
— Подарил одной знакомой. Она в Москве живет.
— А вы, значит, в Ленинграде.
Пронеслась машина, обдав нас грязью.
— Дурацкий разговор, — сказал Чижов. — Я в Ленинграде. А вы?
— В Перми, — ответил я, хотя можно было и не отвечать.
— Подумать только, как нас всех раскидала жизнь… Хотите, дам десять рублей? Будем в расчете.
— Вы же предлагали рубль? Помните?
Из-за угла, грозя снова окатить нас грязной водой, вынырнула машина. Я схватил Чижова за локоть, чтобы оттянуть подальше от проезжей части.
— Двадцать пять, — накинул он, вырывая руку и оставаясь на месте.
Я успел отскочить, а его забрызгало. Это придало мне уверенности.
— Ладно, — сказал я. — Давайте десять, и пошли в магазин.
— Я не пью, — испугался Чижов.
— Идемте, идемте.
Я затащил его в гастроном, поставил в очередь к кассе, а сам побежал в бакалейный отдел. Индийский чай высшего сорта продавался свободно. Чижов с десяткой наготове честно ждал моих указаний. Я велел ему купить на все деньги чаю. Получалось что-то около восемнадцати пачек, но он проявил неожиданное благородство, выбил чек на двадцать, выйдя за пределы обговоренной суммы. Мы загрузили их в мой портфель.
— Понимаю, — сказал Чижов. — Какие в провинции развлечения? Разве чайком побаловаться.
— Теперь на почту, — ответил я.
— Какая почта? Все закрыто.
— Тогда завтра увидимся.
У Чижова вытянулось лицо:
— Это еще зачем?
Но я уже уходил от него в неизвестном направлении. Мне было все равно, куда идти. Всю ночь я скитался по городу, под утро немного поспал на вокзале, а днем, в два часа, когда букинистический магазин закрывался на обед, опять предстал перед Чижовым. Чуть не силой повел его на почту, и мы отправили посылку с чаем в Хара-Шулун, Будаеву Больжи Будаевичу. Потом зашли в кафетерий, на паях выпили по чашке кофе, съели по пирожку с запеченной сосиской — питерское лакомство, о котором я и не слыхал. На плацкартный билет денег уже не хватало. Я решил, что поеду в общем, и купил еще один пирожок. Чижов стал оправдываться: дескать, получил тогда телеграмму и вынужден был срочно выехать из города. Я видел, что он врет, но мне это даже нравилось — пускай врет. Сосиска брызгала горячим соком, злость куда-то исчезала. Настоящая месть должна быть чуточку сентиментальна, говорил Чижов, имея в виду Жоргала, про которого я ему рассказал по дороге на почту, но как бы и меня тоже. Она должна быть неразумна, смешна, нелепа. В этом случае месть ведет к пониманию между людьми. Расчувствовавшись, Чижов хотел купить еще чаю и послать в Хара-Шулун от своего имени. Я сказал, что хватит, и он тут же со мной согласился. Его научный руководитель умер, диссертацию не удалось защитить. Жена, ребенок, зарплата сто рублей. И никаких перспектив на жилье. А среди собирателей книжного антиквариата есть люди с положением. Обещают помочь с квартирой. Тогда он снова займется наукой. А пока приходится жить с тещей. Но с ним считаются в научном мире. Недавно из Улан-Удэ пришло письмо, просят о консультации. Он им написал: шлите копченого омуля. В шутку, конечно. Кстати, рисунок на амулете нанесен красками, сделанными из рыбьих костей. Надпись тоже. Ничего там особенного не написано. Пустяки… Причем кости не от всякой рыбы. Их, значит, вываривают… Но тут по радио пропикало три часа, и Чижов помчался в свой магазин.