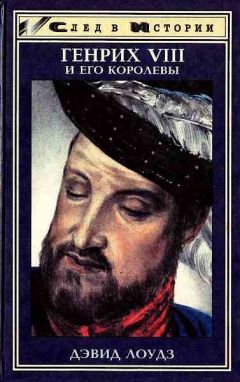Когда он попросил у королевы личной аудиенции, она играла на клавесине в окружении придворных дам.
У Елизаветы было хорошее настроение; её умиротворяли нежная мелодия и сознание своей искусности в музыке, а также воспоминания о том, какое лицо было у испанского посла, когда она заявила, что не желает выходить замуж за инфанта из-за его веры, а кроме того, она вообще не расположена за кого-либо выходить замуж.
— Милорд Сассекс, госпожа.
Елизавета не перестала играть; она хорошо знала, что граф любит музыку и что она очень красиво и грациозно выглядит, сидя за клавесином в лучах заходящего солнца. Наконец она подняла глаза от клавиатуры и поманила посетителя к себе:
— Добро пожаловать, милорд, вы застаёте меня в праздности. Для меня музыка — лучший отдых. С чем пожаловали — развлечь меня чем-нибудь другим или докучать мне делами?
— Ни то ни другое, ваше величество. Я, как всегда, являюсь к вам как любящий слуга и советник. Могу ли я остаться с вами наедине?
По данному королевой знаку фрейлины поднялись, сделали реверанс и вышли из комнаты. Елизавета встала из-за инструмента и подошла к своему любимому месту на окне. В знак своего особого расположения к Сассексу она похлопала по подоконнику рядом с собой:
— Садитесь сюда, милорд. Что вам от меня нужно?
Сассекс смотрел на королеву без страха. Он знал её уже много лет; её мужество, врождённое достоинство и ум восхищали его, и всё же он никак не мог избавиться от воспоминаний о девятнадцатилетней принцессе, которую он некогда сопровождал в Тауэр; она тогда плакала, и горе делало её хрупкой и женственной. Даже словесные баталии в зале совета, где Елизавете удавалось одерживать победы над самыми волевыми людьми Англии, не научили его, что перед ним уже не та слабенькая девчушка, которой он когда-то оказал покровительство.
— Члены государственного совета поручили мне предостеречь вас, госпожа.
Он был слишком прямолинеен и неповоротлив умом, чтобы заметить, как её глаза прищурились и внезапно вперились в него как стальные кинжалы.
— Если они выбрали для этого именно вас, они, должно быть, наверняка знали: мне это предостережение не понравится, в чём бы оно ни заключалось; Не следует так спешить быть чужим языком, милорд. И о чём же они не решаются предостеречь меня сами?
— Речь идёт о лорде Роберте Дадли, госпожа.
— Да? И что же лорд Дадли?
Обычно, когда Елизавета гневалась, она повышала голос; этот вопрос она задала ровным тоном, и это снова обмануло Сассекса:
— Он порочит ваше доброе имя. Он женат, и у нас есть основания полагать, что он намерен оставить свою жену и попытаться предпринять нечто такое, что приведёт ваше величество к погибели.
— И что же, — негромко спросила Елизавета, — вы подразумеваете под моей погибелью, Сассекс?
— Он надеется сам жениться на вас, да простит ему Господь!
— Жениться на мне... — Тонкие брови королевы удивлённо подпрыгнули. — С чего вы это вздумали... и, во имя Господа, милорд, почему я должна погибнуть от того, что кто-то имеет относительно меня серьёзные намерения?
— Это совсем не те намерения! — не выдержал Сассекс. — Он ищет вашей руки из тщеславных побуждений — чтобы стать королём Англии! И я хочу сказать вам то, что готов повторить ему: ему не удастся исполнить эти замыслы, даже если придётся лишить его жизни. Он злоупотребил вашим доверием, госпожа, и за одно это я никогда его не прощу. Только безродный негодяй, сын безродного изменника, каким был его отец, станет волочиться за неопытной женщиной и пытаться пробиться наверх с её помощью! Я пришёл предостеречь вас об этом, пока ещё не поздно. Я пришёл с просьбой удалить его от двора.
Елизавета резко обернулась к Сассексу, и ярость, которая пылала в её глазах, его потрясла. То был смертоносный, не знавший пощады гнев её отца, и Сассекс, не знавший в жизни страха, отшатнулся.
— Вы пришли с просьбой! Но таким ли тоном просят государей? Берегитесь, милорд, берегитесь. Вы говорите о моей погибели, потому что подозреваете: Роберт Дадли надеется на мне жениться. Вы пришли ко мне и посмели заявить, что он ищет моей руки из честолюбия, будто я настолько неженственна, что меня нельзя полюбить ради меня самой! Господи, вы говорите, что я неопытна, а в душе, видимо, считаете круглой дурой; и теперь вы, брюзгливые старикашки, объединились против юноши, потому что боитесь, как бы он не преуспел там, где ничего не добились ваши бумажные инфантики! Поэтому вы посмели угрожать ему, а косвенно — и мне. Так вот, можете мне поверить: если с Робертом что-нибудь случится, десятку из вас не миновать Тауэра.
— Это в вашей власти, госпожа. — Сассекс поднялся; его мясистое лицо побагровело. — Но некогда вы там побывали сами. Тогда вашим тюремщиком был я, и я был к вам более милостив, чем вы ко мне сейчас, когда я снова желаю вам помочь.
Она взглянула на него, но её глаза по-прежнему были глазами Генриха VIII, на чью дружбу не мог полагаться ни один человек, посмевший встать ему поперёк дороги.
— Вы слишком высокого мнения о благодарности монархов... Благодаря той милости, что вы мне оказали, вы сейчас живы и занимаете высокую должность. Я ничем вам больше не обязана, запомните это. Вы сказали то, что хотели, теперь возвращайтесь и будьте моим вестником. Скажите моим советникам: если мне когда-нибудь захочется выйти замуж, мне вполне может прийтись по вкусу и англичанин. И передайте им мою благодарность: до сих пор я и не помышляла о браке с Робертом Дадли. Теперь я подумаю об этом всерьёз.
Июль оказался самым жарким месяцем за последние десять лет; на безоблачном голубом небе пылало медно-красное солнце. В некоторых местностях Англии стало не хватать воды. От засухи сгорал на корню урожай и погибал скот, в Лондоне свирепствовала чума. Богачи покинули свои огромные дома на окраинах столицы и укрылись от эпидемии в загородных поместьях, а королевский двор переехал из дворца на Уайтхолле в Хэмптонкорт.
В Хэмптоне столь многое напоминало об отце и матери Елизаветы, что некоторые полагали: она будет его избегать. Этот прекрасный дворец из красного кирпича был наполнен воспоминаниями о короле Генрихе и Анне Болейн, которую он привёз сюда после свадьбы; она ела, спала и играла на клавесине в тех самых покоях, в которых поселилась Елизавета, гуляла в парке у реки и наблюдала за рыцарскими поединками из той самой турнирной башенки, где теперь сидела её дочь, облечённая королевским саном.
Елизавета сидела со своими фрейлинами и вышивала, а перед глазами у неё был украшенный изящной резьбой каменный карниз — на нём был и вырезаны вензеля, в которых соединялись инициалы Анны Болейн и Генриха VIII. Когда-то обезумевший от любви король приказал украсить таким же орнаментом все портики и потолки во дворце, но позднее его стёрли и нарисовали взамен монограмму его следующей супруги, Джейн Сеймур. А в глубине парка был невысокий искусственный холм — так называемая Горка, стоя на которой однажды ясным солнечным днём, король Генрих ждал, когда пушки Тауэра возвестят о казни Анны Болейн. Лишь однажды Елизавета поднялась туда и взглянула на сверкающую внизу реку. Двое сопровождавших её придворных видели, что, несмотря на жару, королева дрожит. Не промолвив ни слова, она вернулась во дворец и с тех пор никогда больше не подходила к Горке.
Вечера она чаше всего проводила в Длинной галерее, где все окна были открыты прохладному ветерку с реки, а из них в сгущающиеся сумерки неслись голоса и звуки музыки.
Пятнадцатого июля было настолько душно, что королева не пожелала выйти из комнаты; она пила прохладительные напитки и обмахивалась веером, а разомлевшая от жары леди Уорвик читала ей вслух. Когда стало прохладнее, она поужинала в неофициальной обстановке — несмотря на множество блюд, которые всегда ставились перед ней, Елизавета была умеренна в еде — и, к радости своей свиты, решила выйти в Длинную галерею и провести вечер с придворными.
Елизавете было нелегко прислуживать; это признавала даже кроткая леди Дакр, хотя она уже и простила королеве полученную оплеуху. А сейчас Елизавета к тому же пребывала в постоянном напряжении и беспокойстве; будучи лишена возможности двигаться, она всегда начинала капризничать и сейчас ходила по своим покоям, требуя, чтобы её развлекли то чтением, то музыкой, то беседой. Хотя некоторые из придворных дам были на несколько лет старше её, они едва сдерживались. Елизавете наскучило общество женщин, и она не стеснялась это демонстрировать. Послушав некоторое время их щебет, она раздражалась и отрывисто приказывала замолчать. Это их злило, и они без труда находили объяснение тому, что им не удаётся развлечь её и сблизиться с нею; больше всего фрейлин Елизаветы сердило то, что она не желала заводить себе из их числа наперсниц. Она такая вспыльчивая и нетерпеливая потому, что желает иметь лорда Дадли при себе не только ночью, но и днём, сплетничали они. Её бедной челяди приходится расплачиваться за то, что она вынуждена соблюдать приличия — хотя, видит Бог, то, что она соблюдает, и приличиями-то назвать нельзя... Подобно большинству объяснений поведения людей, отчасти это было правдой. В разлуке с Робертом Елизавета скучала по нему; скучала, потому что не могла заняться ни государственными делами, ни охотой или чем-нибудь ещё, что её интересовало, а, подобно своему отцу и матери, она была не в силах терпеливо переносить скуку.