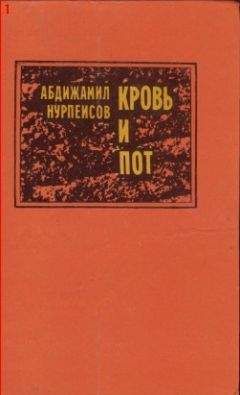Еламан боялся идти сразу к Федорову и пошел сперва к Ивану Курносому. Иван уже встал и ел вчерашнюю рыбу. Как только Еламан отворил дверь, в нос ему ударил противный для степняков сильный запах квашеной капусты.
— А, Еламан… — промурчал Курносый, прожевал, покосился на рыбу и опять принялся есть. Потом утерся, но не вытерпел и ухватил еще кусок.
— Знаю, знаю, — быстро, небрежно сказал он, перестав на минуту жевать. — У вас вчера пацаненок загнулся… Знаю, хоронить надо. Ступай к Федорову… Только гляди!
Еламан вышел на крыльцо, подумал немного и все-таки решил идти. В доме Федорова уже встали, молодая беленькая бабенка толклась возле печи на кухне. Увидев Еламана, она присела к столу и стала разглядывать его.
Казахов она не любила, брезговала, но Еламан ей понравился. Он не был красив, но был плечист, крупен, и одежда сидела на нем аккуратно.
Еламан не привык стесняться с женщинами. Но он знал только своих, казашек, а те были смирны, скромны с мужчинами. И еще они были привычно смуглы, черны волосом и глазами…
Эта же сидела белая, полная, разглядывала его светлыми глазами, и в них он уже видел желание, откровенное, жадное — ноздри ее подрагивали, и Еламан смутился.
— Бай дома? — спросил он неуверенно.
Она поднялась, прищурилась, еще раз оглядела его жадно с головы до ног и пошла в комнаты. Икры ее кинулись Еламану в глаза, они были белые, не как у казашек.
«Черт! Везет этому Федорову, такая баба!»— подумал Еламан, прокашлялся и стал оглядываться. Первое, что он увидел, была кровать. Кровать была никелированная, подушки торчали стоймя, как бы навострив уши. Ослепительно белый подзор спускался до самого пола, а под одеялом угадывалась мягкая округлость перины. «Вот где они спят, — опять подумал Еламан. — Везет чертям!» Он с тоской переступил с ноги на ногу. «Однако, шлюха она!»— решил он окончательно и, чтобы не расстраиваться, стал думать о том, что сегодня надо хоронить сына Мунке и что на лед далеко в море выходить опасно.
Где-то в комнатах, в глубине дома, послышался женский смех. Потом некоторое время было тихо. Еламан устал ждать и по привычке степных казахов пошел в глубь дома искать, куда ушла эта проклятая баба и где Федоров.
Войдя в третью или четвертую комнату, он увидел, что Федоров целует эту шлюху, а она сидит у него на коленях. Увидев Еламана, баба опять засмеялась, а Федоров побагровел, спихнул ее с коленей и торопливо поднялся. Проходя мимо Еламана, она опять оглядела его, опять ноздри ее дрогнули, а глаза прищурились и потемнели.
Как только она вышла, Федоров засопел и шагнул к Еламану. Еламан только теперь понял, что вошел не вовремя, и смутился.
— Таксыр… — почтительно начал он.
— Ах ты косая морда! — заорал Федоров и побагровел. — Ах ты азиат!
Еламан побелел и отступил к порогу.
— Таксыр… — опять сказал он просительно. — У Мунке умер ребенок…
Федоров подскочил к нему и тыльной стороной ладони стеганул его по губам.
— Ты… по до-мам лазить, ко-соглазая морда? — хрипло приговаривал он и хлестал Еламана справа налево. Еламан все белел, но не защищался.
— Таксыр, — упрямо повторил он, неловко шевеля разбитыми губами. — Таксыр, лед тонок… Погоди дня три, ты что, погубить нас хочешь?
Федоров коротко сунул Еламану кулаком в зубы и заорал:
— Пошел вон, сука!
Еламан стукнулся затылком о стену, пополз было вниз, но удержался. Кровь сильно пошла у него изо рта. Утеревшись, покачнувшись, держась за притолоку, Еламан пошел вон. Федоров было кинулся за ним, хотел затравить собаками, но опомнился, отошел. Вернувшись, он поглядел на правую руку. Рука распухла и дрожала. «А ведь этот азиат Кудайменде прав! — подумал он. — Недаром он аж шипит на этого Еламана». Он опять поглядел на руку, стал растирать ее. «А здорово я ему врезал!»— подумал он и усмехнулся. Чтобы успокоиться, он закурил. Руки его все дрожали, правая рука ныла, папиросу свертывать было неудобно. Зато сладка показалась ему первая затяжка! Задохнувшись, выкатив глаза, он долго откашливался. Потом, отдохнув, стал курить уже спокойно. И пот пошел у него по шее и по лбу.
— Ф-фу! — сказал он, сел к столу и оглядел комнату. Задержался взглядом на фотографическом портрете щегольски подтянутого молодого офицера. Нахмурился, покашлял. «Давно не было вестей, не на фронт ли, спаси бог, забрали?»
Потом вспомнил, что и сам давно уже не писал сыну, нашел бумагу, перо, заглянул в чернильницу. Чернила еще были. Опять сел к столу и задумался.
В прошлом году сын приезжал, женился на дочери богача соседа, купца первой гильдии Маркова. Последние годы Марков вошел в силу, строил в Аральске первые большие дома, построил церковь, построил гостиницу, организовал акционерное общество «Хива». Рыба с Аральского моря, тюки хлопка из Хивинского ханства, караваны с чаем и шелком из Китая— все шло через его руки. Породнившись с Марковым, Федоров пошел в гору. А ведь раньше крепко прижимали его свои же купцы. То соли достать не мог, то подвод под рыбу не было…
Став сватом Маркова, он первым делом попросил свата поприжать своего конкурента, богатого купца Егорова, по прозвищу Хромой Жагор. И сват постарался. В прошлом году Хромой Жагор все лето никак не мог достать соли, и только в один год три раза протухали у него большие партии рыбы.
Вообразив, что чувствовал Хромой Жагор, вываливая гнилую рыбу в море, Федоров ухмыльнулся. «Погоди, хромой черт! — с удовольствием думал он. — Ты у меня запрыгаешь!»
Федоров, раскорячившись, начал было письмо и уж написал, что дела его, слава богу, понемножку поправляются, как вдруг вспомнил Еламана. Настроение писать пропало. Отложив письмо; он велел познать к себе Ивана.
— Давай иди к рыбакам, мать их… — сурово сказал он и посопел. — Скажи, чтобы непременно всем выйти на лед. Скажи, если не пойдут — всех рассчитаю; трынки не оставлю!
— Борис Николаевич, лед-то и вправду хреновый. Тонок еще.
— Ты! Поговори еще! Али сытая жизнь надоела?
— Воля ваша, Борис Николаевич, только я в том смысле, что снастей можем лишиться.
— Не давай им новых снастей, старые сойдут…
Иван все понял и вышел. Федоров подошел к окну, поглядел, как тот торопливо пошел к аулу, и усмехнулся. Три года назад, купив по случаю промысел, решил он поехать на Аральское море. Дети его учились, и жена должна была оставаться дома. Федоров решил ехать один, но раздумался, как ему долгое время быть без бабы. Но до самого отъезда дыхнуть некогда было. Вот тогда-то ему и повезло. Проезжая как-то мимо церкви, заметил он на паперти молоденькую нищенку. Он слез с тарантаса, подошел поближе. Одета нищенка была кое-как, но он мысленно прикинул, что из нее получится, если ее одеть и подкормить. Получалось ничего себе… Нищенка была сирота, и Федоров скоро сговорился с ней.
Оставалось уладить ее отъезд с ним. Федоров все-таки побаивался жены и решил для отвода глаз выдать нищенку замуж за Ивана. «Дурак! — говорил он ему. — Кто ты есть? Червь! А я тебе благодетель! Ты не гляди, что она нищая, я какое-никакое приданое ей справлю. Желаю, чтоб ты на ней женился, и все! Понял? За мной не пропадет».
Иван сперва покочевряжился, потом согласился с неохотой. А когда в церкви глянул на невесту в фате — обомлел: так хороша была вчерашняя нищенка. Федоров был сватом, и при всем честном народе крепко обнял свата счастливый Иван, крепко же и поцеловав мокрыми губами.
Вспомнив поцелуй Ивана, Федоров даже и теперь сплюнул, утерся рукавом с удовольствием сказал вслух:
— Дур-рак!
X
Иван Курносый в рыбацкий поселок пришел мрачный. Собрав рыбаков, он хмуро передал приказ Федорова. Сегодня в море нужно было выходить обязательно. Если добром не пойдут, Федоров отберет все рыбацкие снасти. Сообщив приказ купца, Иван поглядел на Еламана. Он знал, что Еламана слушаются и что многое зависит от него. А Еламан, сгорбившись, пристально разглядывал что-то у себя под ногами. Он знал, что Федоров жаден и пойдет на любую крайность. И он не хотел вмешиваться, рыбаки должны решать сами.
Рыбаки поговорили. Они прикидывали так и сяк, и выходило, что надо идти. И когда уже всеми решено было идти в море, Кален вдруг буркнул:
— Пойдем в море — ладно. А хоронить когда? О душе мальчишки и заботы нет…
Мунке с утра сидел, уткнув лицо в ладони. Услышав Калена, он поднял голову, обвел всех воспаленными глазами.
— Нет нам жизни без Тентек-Шодыра. Что будешь делать… И что думать о мертвых, о живых надо думать и заботиться. Ну завтра похороним… А то и сегодня успеем, если пораньше вернемся. Надо идти, рыбаки…
— Идти так идти! — сказал Еламан, вставая и поправляя платок на рту. — Пошли!
И первый пошел вон, а за ним, на ходу подпоясываясь, застегиваясь, стали выходить и другие.
На улице было нехорошо. Заунывно выл морозный ветер, мелкая твердая снежная крупа секла лицо. Посмотрев на низкое небо, повернувшись спиной к ветру, Еламан затосковал — все было плохо последние дни: и погода, и смерть в ауле.