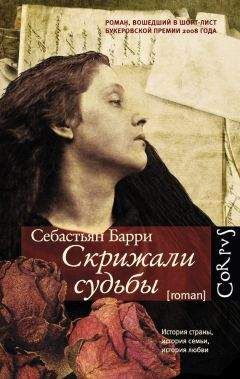«Поживем — увидим, — сказала крыса, заслышав стук деревянной ноги».[10]
Бет так всегда говорит. Что это значит? Не знаю. Быть может, это строчка из какой-нибудь очень известной детской сказки, из еще чего-нибудь известного детского и ирландского, о чем я и понятия не имею, потому что все детство провел в Англии. Совершенно невозможно быть ирландцем и не иметь при этом ни крохи детских воспоминаний, ни даже капли чертова акцента. Никто и никогда не принимал меня за ирландца, а я, насколько мне известно, ирландец.
В спальне Бет, которая находится прямо над моей, всю неделю было тихо, она даже не включала Би-би-си, хотя обычно всегда слушала новости. Бет. Моя жена. Напугала меня до чертиков.
Вчера вечером я предпринял попытку rapprochement[11] — если это так пишется. Я люблю ее, тут у меня нет никаких сомнений. Так отчего же эта моя так называемая любовь нехороша для нее, отчего же она, напротив, вредит ей? Ох, я тут перечитал свою предыдущую запись, ту, где я так тонко или, может, не очень уж тонко льстил себе насчет любви и сострадания — аж живот свело, когда прочел, — и так на себя разозлился, что пошел на кухню и услышал, как она готовит эту ужасную бурду, которую пьет на ночь. «Комплан».[12] Если и есть на свете кошмарный напиток, так это он, напиток со вкусом смерти. В смысле, Жизнь-и-в-Смерти и Смерть-и-в-Жизни, это Кольридж, кажется. «Сказание о старом мореходе». В чей же рукав мне вцепиться, чтобы поведать мою историю? Раньше я цеплялся за Бет. Теперь остался без рукавов. А я ведь знаю, что цеплялся за ее рукав слишком часто, чересчур часто. Как я выражаюсь, «питался» ее энергией, не отдавая ничего взамен. Быть может. Нам было хорошо вдвоем. Мы с ней были королем и королевой утреннего кофе — во тьме зимнего рассвета и в лучах раннего летнего солнца, которое входило к нам прямо через окно, прямо в наше окно, и будило нас. Да-да, маленькие житейские мелочи. Мелочи, которые мы зовем душевным здоровьем или даже полотном, из которого оно соткано. В те времена, когда мы с ней разговаривали — нет-нет, Господи, упаси меня от сентиментальности. Нет больше тех дней. Теперь мы с ней — два разных государства, просто посольства наши находятся в одном доме. Мы находимся в дружественных отношениях, но они строго ограничены рамками дипломатического протокола. Нас связывает подспудное чувство осуждения, перешептываний за спиной, словно бы каждый из нас виновен в тяжком преступлении против другого, которое, однако, свершилось в другом поколении. Мы с ней — одна из стран Балтики. Только она, черт побери, ничего мне не сделала. Преступление было односторонним.
Я совсем не собирался тут все это писать. Предполагалось, что тут будет профессиональный — или хотя бы полупрофессиональный — отчет о состоянии дел, о последних днях этого незначительного, забытого, важного места. Места, где я провел всю свою врачебную жизнь. Лжехрам моих устремлений. Знаю, меня пугает то, что я ничего не сделал для местных заключенных, что я идеализировал их и тем самым подвел их, как пугает меня и уверенность в том, что я сломал жизнь Бет. Жизнь, ту самую «жизнь», ее неписаную повесть о самой себе, ее… даже не знаю. Я вовсе не собирался делать этого. Я гордился тем, что честно верен ей, что ценю ее, что практически поклоняюсь ей. Возможно, ее я тоже идеализировал. Пагубный хронический идеализм. Черт, когда я гордился ей, на самом деле я гордился собой, и это было замечательно. Пока она была хорошего мнения обо мне, и я о себе был самого высокого мнения. Я жил этим, проживал на этом топливе каждый божий день. Так чудесно, так ярко, так нелепо. Но я бы весь мир отдал, чтобы вновь вернуться в то состояние. Знаю, это невозможно. И все же. Когда снесут этот мир, вместе с ним погибнет огромное множество крохотных историй. И на самом деле, это очень страшно — даже ужасно.
Итак, я зашел на кухню. Уж не знаю, было ли ей приятно меня видеть. Наверное, не очень, и она просто терпеливо сносила мое присутствие. «Комплан» она, кстати, не делала, растворяла в воде какие-то таблетки, дисприн или что-то вроде.
— Что случилось? — спросил я. — Голова болит?
— Ничего, все нормально, — ответила она.
Го д назад, в январе, ей пришлось поволноваться, когда она пошла за покупками, упала на улице в обморок и ее отвезли в местную больницу. Целый день ей делали всякие анализы, а вечером кто-то из докторов безо всякой задней мысли позвонил мне с просьбой забрать ее. Он, наверное, думал, что мне уже обо всем сообщили. Как же я перепугался! Выезжая со двора, я чуть было не разбил машину, чуть было не повис на столбе, гнал так, как гонит мужчина, который ночью везет в роддом беременную жену, у которой уже начались те самые пресловутые схватки, хотя Бет так и не довелось их испытать, и в этом-то, наверное, все и дело.
Она уставилась в стакан.
— Как ноги? — спросил я.
— Опухли, — ответила она. — Там одна вода. То есть мне так сказали. Скорее бы отпустило.
— Да, скорее бы, — сказал я, вдруг набравшись смелости, услышав это «отпустило» — как «отпуск». — Слушай, я тут подумал, а что если, когда я разберусь со всеми делами на работе, нам с тобой куда-нибудь съездить на пару дней. Устроим себе отпуск.
Она взглянула на меня, встряхивая шипящие таблетки в стакане, готовясь ощутить их горечь во рту. Вынужден сообщить, что она рассмеялась — так, короткий смешок, который, как мне кажется, она вовсе не хотела себе позволять, но вот мы оба его слышали.
— Думаю, не получится, — сказала она.
— Почему? — спросил я. — Давай, как в старые времена. Нам обоим это пойдет на пользу.
— Советуете, доктор?
— Да-да, пойдет на пользу. Определенно.
Внезапно говорить стало очень трудно, будто бы каждое слово застревало во рту комком грязи.
— Прости, Уильям, — она назвала меня полным именем, дурной знак — больше я не Уилл, теперь я Уильям, теперь я отдельно. — Мне совсем не хочется ехать. Не могу видеть всех этих детей.
— Кого?
— Всех, кто приезжает с детьми.
— Почему?
Глупый, бездонный вопрос. Дети. То, чего у нас нет. И наши бесконечные усилия. Бесконечные. И бесплодные.
— Ты ведь неглупый человек, Уильям.
— Ну, поедем куда-нибудь, где нет детей.
— Куда? — спросила она. — На Марс?
— Куда-нибудь, где их нет, — сказал я, подняв взгляд к потолку, будто бы его и имел в виду. — Не знаю куда.
Свидетельство Розанны, записанное ей самой
Тогда-то и случилось самое-самое страшное. И по сей день, Богом клянусь, я не знаю, как же это произошло. Уж кто-нибудь другой знает точно или знал, пока был жив. Быть может, не так уж и важно, как именно все произошло, да и не было никогда важно, а важно только то, что некоторые люди обо всем этом думали.
Теперь-то это уже не имеет никакого значения, потому что время унесло всех этих людей. Но вдруг есть какое-то другое место, где все бесконечно важно, — высший суд, например. Такой суд бы и живым пригодился, да вот только живым туда не попасть.
Вдруг какие-то чужаки принялись ломиться в дверь, выкрикивая что-то грубыми солдатскими голосами. Мы все прыснули в разные стороны, будто стайка мокриц: я стала пятиться назад, будто трагический персонаж из пьесы передвижного театра — такие у нас иногда играли в насквозь отсыревшем концертном зале, — трое ополченцев полезли под стол, а отец подтолкнул ко мне отца Гонта, будто бы пытаясь укрыть меня между священником и своей любовью.
Ведь каждый понимал: сейчас начнут стрелять, и стоило мне это подумать, как дверь слетела со своих огромных петель.
Да, это были парни из новой армии, в своей нелепой форме. При взгляде на них можно было подумать, что пуль у них предостаточно, ведь они целились в нас с такой яростной сосредоточенностью, но я, выглядывая у отца между ног, своим молодым взглядом увидела при свете жаровни лишь шесть или семь насмерть перепуганных юных лиц.
Долговязый горец, тот, у которого штаны не доходили до щиколоток, вдруг выскочил из-под стола и, повинуясь своим безумным соображениям, набросился на вошедших, будто мы были на самом настоящем поле боя. Брат покойного кинулся вслед за ним, как, быть может, того требовало его горе. Трудно описать, как грохочут пули в маленьком помещении, но от этого звука вся плоть на костях съеживалась. Мы все — я, отец и священник — вжались в стену, и пули, которые попали в обоих парней, должно быть, прочертили в них странные дорожки, потому что внезапно я увидела, как забугрилась старая побелка на стене позади меня. Сначала это были пули, а затем — тонкие всполохи крови на моем форменном платье, на моих руках, на моем отце, на моей жизни.
Оба ополченца — еще живые — извивались на полу, переплетясь телами.
— Во имя всего святого! — вскричал отец Гонт. — Прекратите! Здесь же молоденькая девочка и обычные люди! (Уж не знаю, кого он так назвал.)