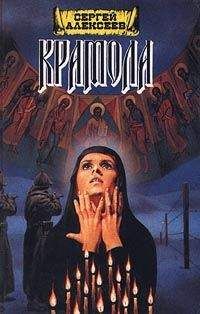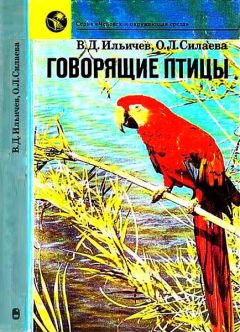В гостевой было темно — черные шторы не пропускали даже хилого, сумеречного света. Будто сонный, с закрытыми глазами — все равно ничего не увидеть — Андрей разделся, ощупью нашел кровать, уже кем-то приготовленную и неимоверно широкую, так что не достать краев. Шелковисто зашуршала простыня на тяжелой перине, пуховое же одеяло, наоборот, показалось легким и отчего-то колючим. «Это солома, — подумал он. — Или нет, сено, на сенокосе…»
— Я принесла вина, — услышал он шепот. — У вас пересохли губы…
Каким-то образом в руке оказался бокал. Андрей привстал и выпил его до дна. Вино пахло лугом — солнцем, подсыхающей скошенной травой — и свежими огурцами. Потом он вспомнил, что это вовсе не огуречный запах. Так пахнет папоротник, если его сорвать и растереть в ладонях.
— Спите спокойно, — у самого уха прошептал знакомый голос, и Андрей ощутил на своем лице маленькие, шершавые руки. — Вы сильный, вы не боитесь смерти. А человек, который не боится смерти, победит всех своих врагов.
Пахло сеном, летним покосным зноем, и вдруг откуда-то из темноты посыпалась мелкая, колкая труха.
— Аленька? — позвал он. — Где ты, Аленька? Я тебя не вижу…
— Я здесь, здесь, с тобой, — отозвался чужой голос. — Вот мои руки…
«Это не Аленька», — подумал Андрей, однако узнал руки, шершавые и колючие от заноз.
— Аленька, — проговорил он. — Вино летом пахнет… А где мой конь? Где конь? Его расседлать нужно… Заподпружится…
— Все спокойно, милый, — серебрился шепот, и рука обласкивала шрам. — Конь здесь, все хорошо…
«Так не бывает, — словно кто-то сторонний подсказывал ему, и кололись эти слова, будто сенная труха. — Ты же сам знаешь, и быть не может. Обман, чувствуешь, обман…»
Он уже ничего не чувствовал, не видел, да и не слышал тоже…
Сон был глубоким и таким далеким, что доставал детство. И пробуждение скорее напоминало возвращение из прошлого. Чудилось, будто он идет по бесконечной анфиладе комнат: вот комната детства, вот комнаты юности, почти сливающиеся в единую, но все равно разные. И — последние, замыкающие, похожие то на «эшелон смерти», то на камеру-одиночку в Бутырской тюрьме. Прежде чем проснуться и ощутить явь, прежде чем выпутаться из бесконечной вереницы снов, он вдруг вспомнил, где находится и что произошло. Вспомнил, и захотелось, чтобы и это оказалось сном. Однако, открыв глаза, Андрей увидел темную гостевую спальню, серые квадраты рассветных окон, проступающие сквозь черные шторы, и в этом неясном сумраке — каштановые, словно подсвеченные, разбросанные по высоким подушкам волосы. Лицо Юлии и во сне было напряженным, а в уголках губ и глаз таилось что‑то неуловимое, какая-то готовность к испугу. Казалось, сделай неосторожное движение — и по лицу ее скользнет страх, а потом уже все другие чувства.
Явь была осознанной. Молчаливая и кричащая о себе реальность не оставляла никакой надежды.
«Что же я наделал? — без отчаяния, но горько подумал Андрей. — Что я сотворил? Зачем?»
И этот вопрос сразу и прочно засел в голове.
Он вспомнил, что называл ее Аленькой. Но губы пересыхали, и его невнятный шепот, чужое имя она принимала за свое. Аленька — Юленька…
Зачем?
Он спустился с кровати и встал на колени перед Юлией. В сумерках лицо ее казалось таинственным и трогательным, словно на иконе. Теплая волна нежности окатила Андрея, но он лишь дотронулся до разметанных волос и спросил:
— Зачем?..
Поднялся на ноги. Ковер был толстый, так что казалось — ноги стоят в траве. Стараясь не шуметь, Андрей оделся и с сапогами в руках осторожно вышел из гостевой.
«Как же это случилось? — спросил он, пытаясь разогреть тугие, неповоротливые мысли. — Куда же я иду? Господи, не хотел идти, не думал — ноги сами несут… Только куда? Зачем?!»
В анфиладе, где были не зашторены окна, уже вовсю разливался утренний свет. Напольные часы в одной из комнат показывали четверть пятого. Маятник с невидимым из-за черного стекла рычагом беззвучно метался в своем окне.
«Так это же конец! — неожиданно озарила мысль. — Теперь мне ничего не нужно. Сейчас я уйду и больше никогда не вернусь. И меня никто не найдет. Как же я раньше не подумал?! Можно было уйти еще вечером…»
Он направился к двери, ступая осторожно; а поняв, что идет по-воровски, встал, усмехнулся:
«Дворянин… Русский офицер…»
Выход был рядом, и фуражка уже в руке — будто бы в этом доме ничего не остается…
Андрей оглянулся назад, тяжело потряс головой: «Вор, вор…»
Не тая шагов, он вернулся в гостевую и встал у порога. Юлия сидела на кровати, завесив лицо волосами.
— Я никому, никому не скажу, — тихо проронила она, выпростав лицо. — Об этом никто никогда не узнает. Эта тайна только наша с тобой.
Он молчал и клонил голову. Голос ее волновал душу, и становилось еще горше.
— А дядюшке скажу, что ты ушел еще вечером. Не дождался и ушел.
Андрей не знал, как ей сказать — «ты» или «вы». Он взял ее горячую руку, поцеловал и с трудом выдавил:
— Прощения мне нет, я знаю…
— Не уходи, еще рано, — Юлия слабо попыталась задержать его, обнять за шею. — Еще патруль на улицах… Ты не уйдешь?
— Простите меня, Юленька…
— Погодите, я во всем виновата! — горячо зашептала она. — Я все когда-нибудь расскажу!.. А сейчас не уходите! Патруль!.. Принесите мне вина!
Андрей пошел на кухню, взял раскупоренную бутылку, но тут же поставил ее обратно и, прихватив фуражку, повернул в замке ключ. Сквозь щель приоткрытой двери он неожиданно увидел Тауринса. Тот сидел на скамейке возле ворот и о чем-то тихо беседовал с охранником. Лица обоих были сосредоточенны и настороженны, словно там происходил какой-то сговор.
Андрей прикрыл дверь и услышал пронзительный и злой хохот за спиной. Он вздрогнул, будто от выстрела; ему почудилось, что, плутая по дому, он давно ждал этого смеха и готовился к нему, но, как всегда, выстрел звучит неожиданно…
Он двинулся на хохот — казалось, смеются на кухне, однако там было пусто. Смех между тем удалился куда-то за стену, и тогда Андрей отыскал дверь черного хода и очутился перед другой дверью, обитой войлоком. Он рванул ее и почуял резкую вонь пота, того самого пота, что смыл вчера в ванне. Смех оборвался. Андрей ощутил чей-то пристальный взгляд и перешагнул порог. Уцепившись руками за прутья железной клетки, старый павиан смотрел с печальной и злой усмешкой, как поживший на свете, неприкаянный человек.
— Ты смеешься? — спросил Андрей. — А сам-то? Провонял весь…
Павиан подпрыгнул и выбросил руку из клетки — то ли просил что, то ли ухватить норовил. Андрей чуть не наступил на черепаху, замершую в проходе, отодвинул ее ногой, как что-то непотребное и мерзкое.
— Живой уголок…
Рассерженный павиан носился по клетке, гортанно кричал и тряс прутья. Внимание Андрея привлек огромный аквариум в углу комнаты, на треть засыпанный каким-то серым мусором. Причем на расстоянии создавалось впечатление, будто мусор этот медленно, неведомо каким образом пересыпается, пульсирует, как живой. Пораженный увиденным, Андрей стоял несколько минут со странным чувством нереальности: в аквариуме оказался самый настоящий муравейник. Высокий, правильной формы конус поднимался среди стеклянных стен и будто дышал от кишевших на нем муравьев. Это движение завораживало. Муравьи пытались штурмовать стеклянные стены, но, взобравшись на вершок, срывались и падали в муравейник. Правда, таких, что ходили на приступ, было мало; подавляющее большинство суетилось по склону пирамиды, совершая незримую и непонятную работу.
За спиной вновь захохотал павиан, но смех его теперь казался веселым и беззлобным. Ощущение беспомощности и детского страха исходило от муравейника. Строгий порядок и одновременно хаос цепенили мысли и чувства.
Андрей сунулся к окну, открыл створки. С улицы пахнуло утренним ветерком и блаженным запахом молодой листвы. Махнув через подоконник, он спрыгнул на землю и, пригибаясь, направился к решетке ограды. Огляделся. Кажется, все было спокойно на заднем дворе, да и решетка была много ниже, чем у парадного подъезда.
Сначала он бежал дворами, натыкался на запертые ворота или попадал в тупики, карабкался через поленницы дров, через крыши сараев и, оглядываясь назад, все равно видел белые, величественные стены дома Шиловского. И лишь когда Андрей очутился на какой-то улице, то почувствовал, что будто сейчас только вырвался из какого-то огромного, кишащего муравейника, гибельного и непонятного для испуганного человека.
Почти четверть часа он бежал по брусчатке нешироких улочек и переулков, оглашая спящий город звучным стуком сапог. Не хотелось думать, правильно ли он бежит и в какую сторону следует двигаться; чем шире становились улицы, тем свободнее дышалось и легчал шаг. Скоро он оказался на набережной, на таком просторе, что дух захватило. Над рекой курился туман, и прибрежные кусты бесшумно чертили воду. Андрей хотел спуститься вниз и умыться, однако услышал властный окрик: