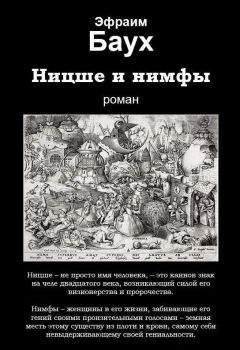Ознакомительная версия.
Но есть изредка сон, как горький корень, как мучающий болью зуб, который бы надо вырвать, и невозможно, так глубоко он засел.
Говорят, зуб мудрости.
Значит, правда, и я это познал всей собственной жизнью: у мудрости смертельно горький корень.
Чей-то прожигающий взгляд вырвал меня из сна. Я увидел склонившегося надо мной человека в белом халате и мгновенно вспомнил его имя — Отто Бинсвангер — и громко его произнес, вызвав искреннее удивление на его лице.
— Вы помните наше знакомство?
— Конечно, доктор. Где я нахожусь и как я сюда попал?
— Ничего страшного не произошло. Вы в больнице. У вас был нервный срыв.
204
Мать пришла сегодня меня проведать и сообщила мне, что Элизабет упорядочила дела в Парагвае, и сейчас находится на пути в Германию, чтобы остаться с нами и больше не расставаться.
В течение нескольких недель я позволяю себе роскошь не думать, где она находится, близко или далеко. Моя болезнь не обострилась от того, что мать обещает мне встречу с сестрой, словно Элизабет здесь, а не в Южной Америке, где ей помогает спятивший от антисемитизма ее муж сеять зерна ненависти по ту сторону океана. Я предпочитаю не отвечать.
Я мог сказать матери, что вообще никогда бы не нуждался в какой-либо помощи, если бы Элизабет с самого начала не вмешалась в мою жизнь.
Если бы я говорил, может быть, не удержался бы рассказать ей об отношениях, которые связали нас, детей, и тогда, вполне возможно, что оба мы оба оказались бы здесь, в доме умалишенных.
И вот, Лама здесь: сидит у моей постели, в убогом окружении больничной палаты. Вероятно, она думала меня ужаснуть, сообщив, что муженек ее наложил на себя руки. То ли дела у него пошли вкривь и вкось, то ли Парагвай нагнал на него паранойю, но я по достоинству оцениваю его поступок. Сколько раз меня охватывало сильнейшее желание покончить с собой, — не хватало мужества.
Сестрица с места в карьер предлагает мне оставить это ужасное место и сопровождать ее в Парагвай, после того, как она упорядочит свои дела здесь, в Германии.
— Мне казалось, что ты не любишь Парагвай, — освежаю я ее память.
— Для себя — нет.
— А для меня — да?
— Для тебя, может, это будет новым рождением.
— Как у Иисуса?
Она пожимает плечами:
— Снова ты кощунствуешь. Ты ведь знаешь, как влияют такие разговоры на мать.
— Она от этого не умрет.
— Это не ты, а твоя болезнь ведет себя так грубо с нами.
— О, дорогая болезнь! Но я и не думаю перебраться навсегда в Парагвай. Давай, прекратим разговор на эту тему. Это слишком далеко. Только одна поездка убьет меня, если не существование под твоим крылышком. Во-вторых, твой покойный муж, несомненно, загадил Парагвай своим антисемитским дерьмом до такой степени, что он превратился в дурное место для проживания, почти такое же, как Германия.
Я все время отвожу от нее взгляд, я боюсь злых глаз Ламы. Она будет подозревать, что когда меня покинут силы и возможности ускользнуть от нее, я попытаюсь, так или иначе, превратить мое медленное умирание в победу над смертью.
Я ведь тайком веду записи, и эта хитрая лиса с характером Медузы-Горгоны, явно меня подозревает в этом и весьма этого боится. У больных в этом заведении вырабатывается тончайшее чувство — все замечать и слышать. Ненароком подсмотрел, как моя сестрица перешептывается с медсестрой Кристи.
Вчера Кристи застигла меня в мучительном мире моих страхов и пыталась спасти мою душу оптимистическим отчетом врачей. Она помогла мне дойти до фасада здания. Там я посидел на скамье, лицом к солнцу. В это время она искала в ящиках моего стола дневник. Но я был к этому готов и передал записи соседу по отделению, мелкому торговцу с обликом крестьянина, все еще верящему, что я гений, и обращающемуся ко мне только, как «герр профессор». Так обращались ко мне соседи по пансиону в Турине.
205
Великая цель искусства заключается в том, чтобы подражать воображению силами души, не желающей признаться в своем поражении даже тогда, когда на нее обрушивается весь мир. До сих пор мне удавалось сопротивляться горькой судьбе. Теперь же я агонизирую, как раненый бык в невероятных страданиях, а Лама боится моих откровений перед массой, ибо это нанесет ущерб приставшему ко мне стоическому образу.
Я распят на колесе судьбы, я агонизирую в страданиях, но в глазах сестры я уже мертв, и душа ее охвачена одним страстным желанием — сохранить меня для вечной жизни, увековечить мою душу в стиле Спинозы.
Приходят сюда известные люди — выразить свое почтение моей личности, принести цветы на мою преждевременную могилу, и она уже получает наслаждение от моего бессмертия, цитирует им мои «Песни могилы» — из «Заратустры» — «Будь благословенна, моя воля! Только в могилах таится — восстание из мертвых».
Любовь это лекарство раненой женской душе, но кровосмешение это запертый сад, перекрытый источник, где иссохли воды жизни, цветы расцвели от прикосновения порочных наших рук и тут же увяли.
И так я сворачиваюсь в собственном отчаянии, не помню ничего, кроме греховных поцелуев, перекрывших все входы любовной жизни, и это направляет меня к ненависти, съедающей Бога, человека, самого меня. Эта ненависть излила вокруг меня первобытный страх, захватила меня в ловушку собственного моего ужаса, и я подобен существу, с которого сброшено прикрытие любви, им же убитой.
Я улыбаюсь в знак согласия с самим собой, но меня толкает внутренний порыв — приветствовать жизнь, несмотря на все мои страдания.
Я задушен пустотой депрессии, без любви, без животного начала, без пения Сирен, которые могли бы вернуть меня к источнику жизни, увенчанному высшим счастьем.
О, песенные птицы надежды — где вы ныне? Горло ваше перерезано, и кровь ваша брызнула на чистые пески пустыни.
Нимфы молчат, погрузившись в немые глубины вод.
Человек, который должен передать эти записки моему издателю, стал особенно дружески относиться ко мне. Но я не знаю, считает ли он меня философом или только сумасшедшим. Утром он нашел меня у окна и спросил, что я ищу во внешнем мире.
— Только проследите за моими глазами, — сказал я. — Если мой взгляд направлен в небо, знайте, что я ищу орла. Но если взгляд мой уперся в землю, это означает, что я преследую льва.
— Вы и вправду ожидаете увидеть льва на улице Йены? — спросил он.
— Если у вас есть глаза его увидеть, почему бы нет? — ответил я.
Один из находящихся здесь глупцов вызвал громкий смех, когда представился святым Петром и рассказал врачу, что Бог сошел с ума.
— Что у Него за проблема? — спросил врач, подмигнув коллегам.
— Бог думает, что Он профессор Ницше.
Если бы Бог был жив, тогда бы это не было шуткой, а открытым всем фактом.
Но сейчас я вернулся в область суда кантианской морали: охранники на страже и не дадут мне плюнуть в идиота, высмеивающего меня каждый день и повторяющего — «Так сказал Заратустра, профессор Трейчке». Он путает меня с прусским милитаристом-фанатиком, а все дураки следующего столетия, несомненно, повторят эту ошибку: они будут приветствовать меня прусским гнусным гусиным шагом в обществе империалистов, таких, как Бисмарк, к которому я испытываю отвращение и вижу в нем убийцу культуры — готтентота, сосущего пиво и объедающегося сосисками.
206
Если бы я мог вызвать колдовством дух Диогена, я бы набрался мужества и плюнул в физиономии этих высокомерных тупиц, как сделал этот великий циник. Но эллины были людьми культуры, несмотря на их весьма сомнительные вежливые повадки. Мы же — варвары — несмотря на изысканное общение и шелковые шляпы, которые одеваем на наши лысеющие затылки.
Призыв циника Диогена из Синопа — «Чеканьте заново монету» — служил вдохновением к ограблению всех моих ценностей. Когда я доказал умным людям, что культурная монета Запада фальшива, я сам себя спас из ямы посредственности и возродился, как мыслящий человек.
Теперь мне надо возродить себя в теле и в душе, вырваться из собственного отвращения к себе — того самого презрения Паскаля к самому себе от мысли, что низменное существо способно потянуть за нос Заратустру, пока он не станет таким же огромным и раздутым, как у Сирано де Бержерака.
В этом возвышенном деле Диоген может мне помочь. Как он отреагировал, когда граждане Синопа осудили его на изгнание? А я осудил их тем, что заставил остаться в Синопе.
Дома умалишенных здесь воистину убежище для нормальных людей. Я постановляю моим судом всем врагам моим жить в заведении душевно больных.
Находясь в плену морских пиратов, когда его купил какой-то «денежный мешок» на публичном рынке рабов, Диоген обратился к нему: «Давай-ка, я куплю тебя, господин». Будучи философом, он хранил свою честь до конца. Нечему удивляться, что он представлял собой пример тех добрых мер, среди которых — антихрист Юлиан Отступник плюнул в лицо принимавшего его щеголя и сноба.
Ознакомительная версия.