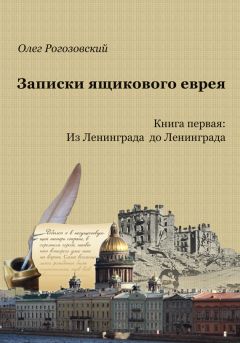Ознакомительная версия.
Эфраим Баух
Солнце самоубийц
Нам ли, брошенным в пространстве,
Обреченным умереть,
О прекрасном постоянстве
И о верности жалеть!
Осип Мандельштам
Из Вены — в Рим.
За окном вагона — ночная Европа семьдесят девятого.
Кон скорее ощущает, чем различает во мраке тяжесть горных громад, именуемых Альпами, их мертво-белое веяние, натекающее в кончики пальцев рук знакомым замиранием и покатыванием, требующим кисти или карандаша.
Но вот уже скоро полгода не брат их в руки, обессиленный ожиданием разрешения на выезд, невыносимостью прощания навечно с сорока годами отошедшей жизни, изматывающей душу предотъездной суетой.
Совсем недавно, в другом поезде, еще в той жизни, прощально пересекал он скифские пространства от Ленинграда до Одессы, затем — до Крыма, и встряхивающаяся на миг жизнь провинции, рассекаемая свистящим поездом, последний раз несущим его на юг, тут же опять забывалось в дремоте. Край случайного, погруженного в беспамятный сон огорода обозначался краем мира, Одесса обступала кавернами дряхлого камня, темными извивами скульптур: накопившаяся в них от обилия влаги плесень обдавала запахом затхлости и распада. В испуге он прилежно вдыхал этот запах, обреченно угадывая в нем затхлость предстоящей ему жизни и заранее к нему привыкая.
Поезд замедляет ход, на миг замирает у какой-то игрушечной европейской станции, пусто и отрешенно обозначившейся в этот предрассветный час.
Сидящая рядом девушка с нежным еврейским профилем и мягкой украинской речью всматривается в окно с печалью и надеждой.
Беженка-неженка.
Но не подносят на станции бабы соленые огурчики из Нежина. Поезд трогается. Сухой, фиолетово-солнечный Крым — на пути к Риму. Крым, Рим и медные трубы. Скорее — трубы каменные: тоннели. Они наступают как внезапная глухота или звон в ушах. Альпийские высоты холодят рассветной снежной белизной. Ощущение родственности с ними приходит Кону спасением от назойливо обступающей тесноты спутников по вагону, жизненной хватке которых можно позавидовать: стоит им зацепиться за любой угол, полку, вагонный косяк, тут же начинают ткать паутину, в которую жаждут уловить хотя бы толику покинутого ими уюта, и само это стремление мгновенно позволяет иностранцу отличить в них беженцев, спасающихся неизвестно от чего и едущих неизвестно куда.
Москвичи подчеркнуто растягивают слова, огораживая себя столичным говорком, ленинградцы держатся так, словно классическая безупречность северной Пальмиры является их личным наследственным достоянием и очередной заставивший их непроизвольно сжаться в темноте тоннель — всего лишь тоннель невского канала у Исаакия, водяная подзорная труба, в которой, приближаясь и ширясь, встает Питер.
Одесситы шумны и деловиты: женщины — усаты, мужчины — носаты.
Много картавого говора.
Гнусавое бормотание под нос: «Евреи, евреи, кругом одни евреи…»
Кон ощущает себя частицей этого людского скопища, начисто лишенного умения вольно привыкать к пространству: оно обозначается страхом ограничения, болезнью непрописки, околышем приближающегося милиционера, заголовком из вызывающей тошноту газеты — «Граница на замке».
А тут — в мягкой размытости рассвета — замки на вершинах Тосканы, гнезда легенд: красно-бурый цвет древнего геральдического камня; наливающееся крепостью синевы небо; нежнокупоросная зелень виноградных лоз; средневековые стены сказок Гофмана, погруженные в меланхолический свет Леонардо.
Спасительная нерасчлененность пространства, как холодный компресс к пылающему лбу: иначе как выдержать внезапную панораму Флоренции, подсеченную не кистью, а плоскими водами Арно, и неожиданно вернувшееся прошлое, которое в миг отъезда, казалось, было стерто одним махом.
Что это? Ощущение приближающегося конца или нового начала?
Рим.
Паутина рельсов. Покачиваясь на семи холмах, всасывает он поезд вокзалом Термини, выщелкивает пассажиров из вагонных стручков, и пошла перевариваться мелочь, не дающая насыщения, в переплетениях улиц и переулков. Уже три тысячелетия переварено: руины красного кирпича и серого, как окаменевший кал, травертина, обрачиваются Форумом и термами Каракаллы.
Кон ощущает все симптомы болезни, называемой «сонным параличом»: спит с открытыми глазами, видит и четко сознает все, что происходит вокруг, но ни говорить, ни двигаться не может, парализованный внезапной и чрезмерной дозой досознательной памяти, — а ведь всего лишь легкий укол — Колизей.
Схваченного сонным параличом, почти пронесут Кона, как и свои чемоданы, случайные его спутники мимо берниниевского фонтана «Тритон» и тут же нырнут в какой-то замусоренный переулок по Виа Тритоне, и он очнется в каком-то допотопном пансионе со страшным сердцебиением.
Но что могло вызвать это непрекращающееся сердцебиение, хотя он уже наглотался тайком таблеток тазепама и валерианы?
Сосед ли по комнате, лежащий ничком на своей кровати, распятие в изголовье, олеографически-склепный дух католичества, не выветриваемый из этой малой пансионной комнатки, мышиная скученность и потертая роскошь вестибюля с малиновым бархатом дряхлых кресел и старческим пигментом большого зеркала, белой, из прошлого века, входной дверью, защелкиваемой на вышедший из моды замок, запыленные складки и фестончики портьер, замерший между этажами лифт в замысловато-ажурном корсете железной шахты? Быть может, странный, идущий из-под пола гул? Стоило распахнуть окно, и влажный сентябрь вливался мертвой тишиной первой римской ночи, начисто смывая гул.
Стоило его снова закрыть, как гул возобновлялся, сосед, лица которого он так никогда и не увидит, лежал ничком, сердцебиение усиливалось.
Или, быть может, самой естественной реакцией на великие руины великого города является сердцебиение, которое невозможно унять.
Но ведь так можно и умереть. Увидеть Рим и умереть. Так вот, невзначай, в заброшенном пансионе, с распятием Христа в изголовье и иудейской неисповедимостью в сердце блудного сына. Мгновениями казалось, он теряет сознание — от этих мыслей или чрезмерной тахикардии?
Кон обливался холодным потом, вытягивался на простынях, пытаясь расслабиться и тут же ловя себя на строках Блока и еще больше леденея…
В каких-то четырех стенах,
С необходимостью железной
Усну на белых простынях?..
Чувствуя, как пропадает, поднялся с постели, вышел в салон, с бессознательной четкостью отомкнул незнакомую дверь и, хоронясь ажурного лифта, сошел по ступеням чужого заброшенного пространства наружу, в какие-то захламленные углы.
Надо было выйти как вырваться.
Переулок пахнет гнилью.
Кон пытается запомнить какие-то контуры карнизов и балясин, чтобы по ним найти дорогу назад, и вдруг замирает на пустынно распахнувшейся площади: фонтан Треви, безводный в нулевом часу ночи, с продрогшими и состарившимися от неожиданно пресекшегося на ночь внимания атлетами, чей облик на глазурованных открытках будит по всему миру туристскую ностальгию.
Кон всматривается в небо. Вот кто принес сжимающее грудь сердцебиение: непривычно тихие, затаенно-тяжкие облака, и в них выступающая из тысячелетних камней тишина смерти, которую только здесь дано услышать и ощутить, — смерти, такой скучной, вечной, такой настоящей…
Потом как попытка спасения — первый наскок впопыхах на Рим, проход протягивающейся через тысячелетия Cloaca Maxima, чьей уцелевшей ржаво-железной дверки в подземелье Мамертинской тюрьмы он коснется, представляя со слов гида, как выбрасывали трупы замученных и казненных в фекальное течение времени, и из вони и смерти цвела легенда об Ангеле, освободившем апостола Петра, во все глаза будет смотреть он на щит, где начертаны имена казненных в этом подземелье, имена, сотрясавшие в свое время Римскую империю, — Аристобул, Сеян, Шимон Бар-Гиора.
У Кона есть свой ангел, мимолетно схваченный и закрепленный кистью на полотне: спрятанный в багаж и не обнаруженный таможенниками, он, вероятно, едет или плывет малой скоростью.
Освободит ли он Кона?
Или для этого необходима вера апостола Петра?
На вторую ночь их переселяют в другой пансион, на Виа Кавур, и он получает угол в огромной оголенной комнате, а вокруг — подозрительно веселые лица его мимолетных коллег по ночлегу, мужчин и женщин, и, главное, опять изводящее сердцебиение. Непонятно почему посреди комнаты — биде; его пытаются скрыть от глаз, набрасывают на него вещи, а оно опять и опять бесстыдно обнажается, назойливо лезет в глаза: вдобавок в закутках что-то готовят, запахи вызывают тошноту; и опять Кон выбегает на улицу. Ступени ведут его вверх, на пустынную площадь, в распахнутые двери собора Сан-Пьетро-ин-Винколи, кафедральный мрак и остолбенение: в короткой вспышке света (турист бросил монетку в автомат) — «Моисей» Микеланджело, так вот, запросто, по соседству с биде…
Ознакомительная версия.