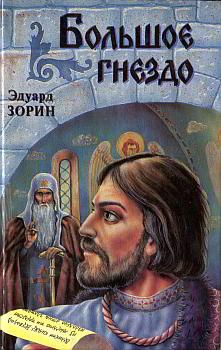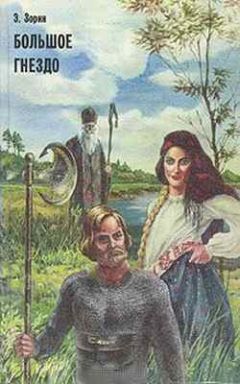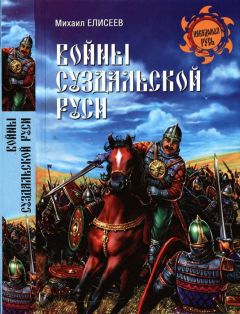несколько мешков с вяленым оленьим мясом и рыбой,— припасов этих должно было хватить до конца пути. Но если падут олени, если налетит пурга, Яруну не выбраться из тундры. Недаром все, пытавшиеся дойти до Большой воды, так и не вернулись на родину.
Олени, вскидывая головы с ветвистыми рогами, бежали легко. Из-под мохнатых ног взлетали брызги колючего снега. Снег слепил Яруну глаза, он ложился в нартах на бок и забывался в полудреме.
Однажды он заснул. Он давно уже не спал и словно провалился в небытие. Сон был голубой и розовый. Ярун не запомнил его, но, когда открыл глаза, испуганно ощутил вокруг себя непривычную тишину. Не слышно было ни шороха встречного ветра, ни поскрипывания полозьев. Над серой ночной тундрой играли радужные сполохи северного сияния.
Воздух, словно сотканный из невидимых нитей загадочного света, показался Яруну продолжением чудесного сна. И тут же тело его напряглось от леденящего страха: он лежал на снегу, нарт поблизости не было, только темный след, прихотливо извиваясь, уходил по реке в белесую мглу...
Ярун вскочил на ноги и надрывающимся голосом стал звать оленей. Морозный воздух обжег ему легкие, он закашлялся и побежал по следу.
Это было еще ни разу не испытанное чувство — не просто страх, а нечто более сильное, охватившее сразу все его существо. Даже в бурю на море, когда свирепый ветер раскидывал по волнам утлые лодии, ломал мачты и рвал ветрила, Ярун не испытывал такого леденящего ужаса. Там рядом с ним были друзья, они боролись с волнами, криками подбадривали друг друга. Здесь Ярун был один, а вокруг стояла тишина, и чудилось, будто из белой мглы следят за ним враждебные глаза деревянного самоедского идола.
В раннюю весеннюю пору по тундре бродят стаи изголодавшихся за зиму, отощавших волков. Они нападают на оленей и на людей, и самоеды прячутся от них в свои чумы, призывая на помощь добрых духов. Отгоняя зверей, они стучат в барабаны... Но серые стаи не боятся их грохота.
Ноги подкосились, Ярун опустился в снег и сидел так, не двигаясь, ни о чем не думая. Но под совок пробирался
мороз, предательски полз по телу, смежал глаза. Ярун со стоном поднялся и снова побрел по следу нарт.
В глубоком снегу идти было тяжело. Ярун проваливался в сугробы, ложился на живот и полз. Время остановилось.
Рассвет наступит не скоро. И, когда наступит рассвет, Яруна уже не будет в живых. Еще долго, очень долго будут лежать эти бесконечные снега, приподнявшие к небу призрачные столбы северного сияния.
...Олени вернулись по собственному следу. Время от времени они останавливались, взрывали копытами снег, чтобы добыть из-под него живучие стебли ягеля.
Ярун упал в нарты, пристегнулся к ним ремнем и тут же забылся глубоким сном.
2
На самый росеник Добрыня призвал к себе сотника Сыра.
— Донесли мне верные люди,— сказал боярин,— что по Югу много беглых холопов расселилось в лесах. То непорядок. Не годится людям жить без крепкой боярской власти... Возьми-ка, Сыр, воев да ступай на Юг. Чья рука длинней, того и земля. Ступай, без земли ко мне не ворочайся.
Богат боярин Добрыня, крепче всех сидит в Великом Ростове. Много разного люда трудится на него — и боровщики, и бобровники, и закосники, и мытники, и медовары, и говядопасцы. А все глядит боярин по сторонам — где бы еще поживиться. Удил он золотой удой, оттого и Леон, епископ ростовский, стал ходить под его пятой. Один только Всеволод хоть и принимал дары, а спешить не спешил. «Осторожен еще,— рассуждал Добрыня.— Попривыкнет, придет на поклон». И дочери говорил:
— Стояньем города неволят. Никуда не денется твой сокол. Приведу к тебе Всеволода на шелковой бечевочке...
Сотник Сыр удалился от боярина, гордясь полученным поручением. Тем же днем он отобрал воев, снарядил суда и на Николу весеннего двинулся вниз по Волге — добывать боярину землю, ставить над вольными людишками боярских верных тиунов. И еще наказал ему Добрыня срубить повыше Устюга крепость для устрашения холопов: шкурка их, а вычинка наша.
Долго плыл Сыр с воями: за Волгой на Сухоне пошли места дикие, купцы сюда редко заезживали, еще реже хаживали иные люди. О местах этих в Ростове рассказывали небылицы. Говаривали, будто облюбовали их нечистые, будто под каждым пнем — по лесовику, под каждой кочкой — по лешему.
С тревогой вглядывались вои в подступающие к реке темные леса, то и дело прикладывались к винным сулеям. Отхлебнут из сулеи меду — и вроде отступит страх. Но мед был коварен: после иному такое померещится, что хоть сейчас в реку вниз головой.
На ночь лодии приставали к берегу. Отгородившись от леса большими кострами, вои вспоминали, что в родных-то краях в эту пору выгоняют на ночницу лошадей. В избах пекутся пироги с гречей, а с наступлением вечера все холостые ребята выезжают в поле, где пасут лошадей до самого июля. Чего, бывало, не наслушаешься в ночнину!.. Вот и нынче десятинник Силуян, сидя у костра на щите, рассказывал испуганно сгрудившимся вокруг него молодым воям о кикиморах.
— Живет на белом свете нечистая сила; ни с кем-то она, проклятая, не роднится,— глухим голосом говорил он,— нет у нее ни отца, ни матери, ни брата, ни сестры, ни кола, ни двора; бродит она по белу свету одна-одинешенька, все выглядывает, кого бы ей погубить, кому бы зло сделать.
Силуян — находчивый рассказчик и выдумщик. Всем обличьем своим он похож на деда-лесовика: ростом мал, сухощав, острые плечи приподняты, брови густые, лохматые, под бровями маленькие глазки, будто мышата,— прыгают, резвятся, а то и спрячутся в норку. Прикроют их брови, и кажется, что Силуян спит. Но Силуян никогда не спит, а если и спит — все равно уши топориком. Все слышит, все обо всех знает десятинник Силуян.
Не в один поход хаживал с Силуяном сотник Сыр. Бывал с ним в жестоких сечах, а ни один меч не коснулся десятинника, ни одна стрела не оцарапала его кольчуги. Будто заговорен был Силуян и от копий, и от сулиц, и от топоров. И хоть был он уже не молод, а не стерпел, взял его с собою Сыр на речку Юг: с Силуяном Сыр чувствовал себя уверенно, без Силуяна — как без рук. И был Силуян для Сыра вроде оберега: не убьют Силуяна — и Сыр вернется поздорову в Великий Ростов.
«А что, как и впрямь водится он с нечистой силой?» — думал иногда Сыр. Был он человеком набожным, но в этакой-то дремотной глуши чего в голову не полезет! Бог богом, а не худо, коль и Силуян под боком.
Трудно добирался Сыр до речки Юг. Прошли уж и комарницы, в лесах появились стрижи и ласточки. С прилетом птиц поутихли сиверы, потянули влажные теплые ветры.
Плыли лодии по Сухоне, стучали уключины, хлюпали, падая в воду, весла. Уже третий день не было ветра, третий день натирали вои на ладонях кровавые мозоли. Лес встречал и провожал их враждебным молчанием. Поутихли птицы, попрятался в чаще зверь. Один только раз выкатился в заросшую тальником заводь большущий рыжий медведь, встал на задние лапы. Люди ему в диковину — что за чудеса?.. Постоял медведь на задних лапах, потряс лохматой головой и, недовольно ворча, укатился обратно в чащу. Бросив весла, развеселившиеся мужики выпустили несколько стрел, но стрелы не долетели до берега, и зверь ушел невредимым. Ловкий рыжий ком вскарабкался на каменистый откос и, перевалившись за него, прянул в лес.
Недаром, знать, замечали весной в деревнях, что солнце выходило на красном небе,— палило нещадно. На четвертый день грести совсем стало невмоготу.
Душный ветер надул комаров. Вои дымили кострами, расчесывались, кляли на чем свет и боярина Добрыню и Сыра. Или золота мало в скотницах у Добрыни, или землю он ест — оттого все и не хватает?!
Сотник делал вид, будто не слышит недовольных речей. Ссориться с воями в пути ему не хотелось.
До Устюга добрались только к концу месяца, когда уже появились худые росы. Про худые росы, случалось, говаривали всякое. Заболеет скотина, и уж старые люди заметят: «Верно, напала на медяную росу». Пожухнут листья — опять она, дурная роса... Хоть и жарко было, а вои ходили по лодии в обувке — как бы чего не случилось. От медяной росы не скоро избавишься, тут без знахаря не обойтись. А какой в Устюге знахарь?