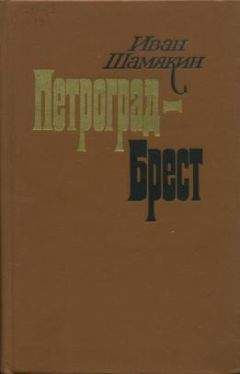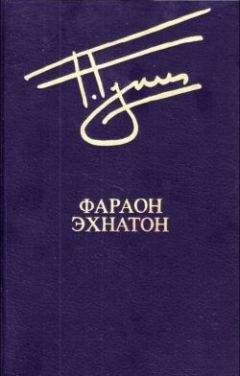«Эта история — на потребу мещанину».
«Хорошо. Тебе не нравится история с Кисочкой. Но ты вчитайся в философию!»
«Интеллигентская болтовня. Игра в парадоксы».
Они почти поссорились. Но потом, через полчаса, была радость, — счастье примирения.
Теперь и ему рассказ не нравился. Может ли взволновать подобная дачная любовная история, когда он пережил… когда тысяча людей переживали трагедии, что не снились и героям Шекспира?
Но в мозгу сидела мысль: «Чем нормальные люди кончают…»
«Да, дальше идти некуда. Дошел, мыслитель! — Сергей произнес это с иронией. — Стоп, машина! Моя машина остановилась».
Нет, сдаваться не хотелось. Сопротивлялся!
«А может, это от моей болезни? — И тут снова: — Какая болезнь? Физически больным сделала меня мать в своем воображении. А я болен душевно. Я смирился с мыслью, что все умрем. Умерла Мира. Умер Шекспир… Умер Чехов. Боже мой! Как тяжело согласиться с их смертью, с тем, что их мысли, их дела никого не спасали… не спасают».
Третий день после посещения Мириного дома Богунович лежал не вставая, разбитый, измученный. Казалось, и слух снова стал ослабевать. Но теперь это не пугало: может, и лучше ничего не слышать?
Василина приносила с улицы страшные слухи о зверствах оккупантов. В Лошице немцы пришли в дом, чтобы арестовать большевика, но он скрылся. Тогда они убили его жену, распороли ей живот, отрезали груди, маленький ребенок купался в материнской крови.
Мать ужасалась, но и сердилась: «Не может этого быть, Вася. Не верьте. Немцы — цивилизованная нация. Конечно, на войне люди звереют. Но чтобы до такой степени…»
А он, фронтовик, верил: так и было, представители «цивилизованной нации» могут совершить и не такое… уничтожить село, город… народ… Но он молчал. Оправдывал свое молчание тем, что жалеет мать, не хочет пугать ее. Однако росла в нем ненависть, какой не было ни тогда, когда поднимал солдат в атаку, ни в конюшне, ни в погребе; она родилась разве что в лесу и достигла своего апогея здесь, в Минске, когда его вела Стася и мимо них проскакал эскадрон улан. Наверное, вспышка ненависти была тем шоковым сдвигом, который вылечил его от глухоты. А может, действительно теперь было бы легче, останься он глухим? Ах, какие глупые мысли!
«Почему глупые? Если я вновь дошел до той философии, которой переболел в гимназии, в университете… Круг замкнулся. Однако… Не умирать же! Как говорит Ананьев? — Сергей снова поднес книгу к глазам. — «Добро бы мы со своим пессимизмом отказывались от жизни, уходили б в пещеры или спешили умереть, а то ведь мы… живем, чувствуем…»
Вчера приходили Мирин отец и Клара.
Наум Шкляр, худой, костистый, с опущенным правым плечом, от чего его как бы клонило в сторону, с седой библейской бородой, выглядел значительно старше своей жены. Не в пример ей, он был молчалив: не сказал и трех слов. Говорила Клара. Может, и мать молчала бы, скажи он, Богунович, сразу, с чем пришел?
О любви он, конечно, не говорил. Сказал лишь коротко, что за день — всего за день! — до немецкого наступления они поженились. Подробно рассказал, как Мира погибла, где ее похоронили, кто похоронил. Клара плакала. Без единого вопроса старый Шкляр поднялся и низко поклонился ему. Это его тронуло, растрогало, взволновало не меньше, чем разговор в доме, где Мира выросла. Это отняло у него остаток сил. Мать входила на цыпочках в отцовский кабинет, где он лежал, заглядывала со страхом, и, не находя что сказать, молча шла на кухню.
Сегодня она, пожалуй, обрадовалась, когда увидела его с книгой. Но ему сейчас Чехов не дал ни успокоения, ни удовлетворения.
Сергей встал. Прошелся по просторному кабинету. Постоял перед окном. На дворе — солнечный день. Капель. Весна. Но и она не радовала. На улицу тоже не хотелось. Более того: он боялся туда выходить. Боялся встречи с немцами. Не стыдился признаться себе в этом.
На письменном отцовском столе лежал томик Бунина. Открыл его. Прочитал одно стихотворение, другое. Ювелирная работа. Но как все это далеко, не нужно его душе!
Норд-остом жгут пылающие зори…
Или:
В сонной степной деревушке
Пахучие хлебы пекут…
Но вдруг словно ожегся. Прочитал один раз, второй:
Герой — как вихрь, срывающий палатки,
Герой врагу безумный дал отпор,
Но сам погиб — сгорел в неравной схватке,
Как искрометный метеор.
А трус — живет. Он тоже месть лелеет,
Он точит меткий дротик, но тайком,
О, да, он — мудр! Но сердце в нем чуть тлеет:
Как огонек под кизяком.
Стихи по-новому взволновали и сразу повернули раздумья в иную сторону. Показалось обывательским намерение, возникшее в лесу, когда он осознал свою глухоту: «Приеду домой — и никуда, отвоевался, буду лежать, читать Лелины или мамины записки. Чехова». Исчезли иссушающие мозг мысли, рожденные чтением «Огней», — мысли о бренности жизни, о неизбежности расставания с ней.
Теперь потрясло другое. Пожалуй, испугало даже. Как бы не превратиться в того мудрого труса, который якобы тайком точит дротик, а в действительности тлеет, как огонек под кизяком. Вот именно: под кизяком, под сырым кизяком — малюсенький угасающий огонек.
Нет, такая жизнь не для него! Но что делать? «Куды пайсц i? I што раб i ць?» Слова Богдановича — их часто повторял отец; поэтами Богдановичем и Купалой восторгался адвокат, считал их предвестниками национального возрождения белорусов.
Походил по кабинету. Останавливаясь у стола, прочел стихи второй раз, третий… Запомнил. Пошел к сестре. Прочитал ей.
У Лели после того, как она послужила в госпитале, насмотрелась на людские муки, появился своеобразный протест против интеллигентщины. В гимназии она увлекалась новой поэзией. Но в госпитале убедилась, что солдаты любят Лермонтова и Кольцова и не понимают Блока, а тем более Северянина и Гумилева. А сама она вообще остыла к любой поэзии, считала: не до поэзии в такое сурово-прозаическое время. Теперь она с большим удовольствием распускала старые кофточки, свитеры и вязала безрукавки — «душегрейки», как их называли солдаты; не только раненые, лежавшие в холодном госпитале, но и врачи, фельдшера готовы были руки ей целовать за такие подарки.
Не прекращая вязания — спицы в ее пальцах так и мелькали, — Леля равнодушно похвалила:
— Ничего. Чьи?
— Бунин.
— Бунин? — удивилась она. — Не то они пишут, поэты, о войне.
— Не то, — согласился Сергей. — Но это написано до войны. Хотя что значит — до войны? Когда люди не воевали?
Стало немного грустно, что сестра не поняла его. Объяснять не захотелось. Вернулся в кабинет. Полежал. Почитал Чехова. Но из головы не выходили строки: «Но сердце в нем чуть тлеет: как огонек под кизяком».
«О, да, он — мудр».
Не лежалось. Не читалось. Заглянул на кухню, где мать и Василина готовили обед; им хотелось получше, повкуснее кормить его, контуженого; делать это в голодное военное время — с приходом немцев рынки опустели — было очень нелегко, поэтому они как могли изощрялись в кулинарном искусстве.
Женщины обрадовались его появлению: если больного потянуло на кухонные запахи — это хорошо.
— Сергей Валентинович, вы пробовали солдатские супы. Попробуйте нашего. Грибного.
Он охотно, что тоже порадовало их, исполнил Василинину просьбу: подул на горячее варево в ложке, хлебнул, похвалил. Отошел к окну. Смотрел во двор, на здание почты на углу Подгорной и Губернаторской, прочитал как бы про себя: «Герой — как вихрь…»
Оглянулся не сразу, словно предчувствуя, что здесь реакция будет иная, нежели у Лели. Глянул: у Василины испуганные глаза, у матери дрожат губы. Они пеняли его. Его настроение. И сердца их в отчаянии кричали:
«Что же это такое? Снова — на войну?»
Отец радостно крикнул из передней:
— Сережа! Посмотри, кого я тебе привел!
Богунович-младший который день страдал от одиночества, от безысходности, чувствуя себя тем «мудрым», который будто бы лелеет месть, а в действительности тлеет, потому что не знает, куда податься. Не однажды думал: счастливые Рудковский и Бульба, они — как вихрь, и если сгорят, то метеорами. Во всяком случае, тлеть не будут. Он возненавидел себя за бездеятельность. Идти никуда не хотелось, встречаться с кем-нибудь из друзей юности не было никакого желания, тем более принимать их у себя. Встретиться ему хотелось разве что с одним человеком, незнакомым — с Мириным братом, который, как проговорилась их словоохотливая мать, скрывается от немцев, работает в подполье.
По голосу отца почувствовал, что привел кого-то из его давних приятелей. Отцу хочется прогнать его хандру. Поморщился, неохотно поднялся с дивана, вышел в переднюю. И — странно — вдруг обрадовался. Перед ним стоял его гимназический друг Болеслав Кручевский.