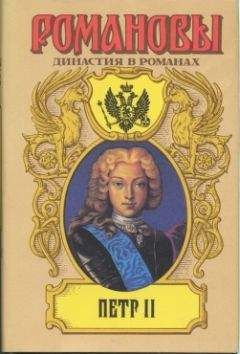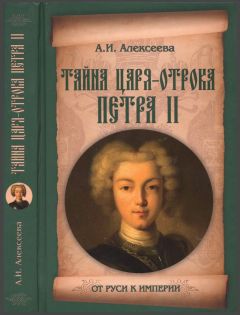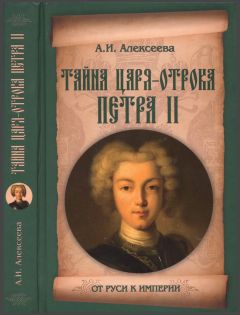– Нет, батюшка, не можное то дело: моего горя никому не избыть.
Алексей Григорьевич улыбнулся и покачал головой.
– А знаешь, Иван, я ведь догадался, что тебя за горе точит… – сказал он. – Чай, у тебя зазноба появилась?
Младший Долгорукий нервно вздрогнул и прошептал:
– Верно. И от той зазнобы я и места себе не нахожу…
– Ну вот видишь, глупый! Давно бы сказал. Не велика ещё эта беда. Присватывайся, да и давай свадебку играть.
Иван Алексеевич тяжело вздохнул и промолвил:
– Моя зазноба за меня не пойдёт.
Отец расхохотался.
– Вот тебе раз! – воскликнул он. – Да ты, никак, Иван, с ума спятил! Да какая же это невеста сможет Ивану Долгорукому отказать? Такой ещё не народилось. За тебя всякая с радостью пойдёт.
– Эта не пойдёт.
– Да кто «эта»?! Сказывай толком.
Иван Алексеевич встал с места, подошёл к двери, приотворил её, чтобы убедиться, что их никто не подслушивает, затем снова уселся и тогда только сказал:
– Принцесса Елизавета Петровна!
Алексей Долгорукий даже руками развёл от удивления.
– Вот тебе раз! – произнёс он. – Неужто?..
– Вот с этой-то любви на меня и дурость напала! – отозвался князь Иван. – Хотел её пересилить спервоначалу, да не смог. И наяву-то она мне всё грезилась, и во сне-то мне от неё покою не было, – ну и зачертил, чтобы хоть немного забыться. Да нет, не забудешь! Уж так-то я колобродил всё это время… Иному бы пора на погост отправиться, а я, вишь, всё жив да всё о ней думку думаю.
Горькая улыбка скользнула по его губам и затерялась в глубине сразу затуманившихся слезами глаз.
Алексей Григорьевич молча поглядел на него несколько секунд и потом промолвил:
– Эх, Иван, Иван! Погляжу я на тебя, какой же ты ещё глупый! Чем всю эту дурость на себя напускать, заслал бы сватов – да и кончено дело!
– Да ведь это немыслимо! – простонал Иван.
– Да ты пошли.
– И посылать нечего!
– А хочется тебе счастья?
– Господи! – воскликнул Иван. – Да я, кажись, с ума бы сошёл с такой радости!
– И с ума сходить нечего! Ты только меня слушайся. Вот объявит не сегодня-завтра государь Катю своей невестой…
– Да нешто это возможно! – перебил Иван.
– Коли сказываю, – стало, возможно. Всё дело теперь вот как налажено, и не сегодня-завтра сие совершится. Так вот опосля этого мы и донесём государю о твоей любви. Он тебя так любит, что, наверно, сам в сватах будет… Ну а ему уж принцесса Елизавета Петровна отказать не посмеет.
– Хорошо, кабы так было, – прошептал Иван.
– Да уж будет. Ты только дурость свою брось. А самое главное – смотри, Иван, старайся его на брак с Катей настраивать. Ну а опосля и за твои делишки примемся… Так как же, Ваня, идёт, что ли?..
Иван подумал немного, потом быстро поднялся с кресла и протянул отцу руку.
– Идёт, батюшка!
– Ну вот и ладно! – обрадовался Алексей Григорьевич. – А теперь давай поцелуемся.
И отец и сын бросились друг другу в объятия.
Принцесса Елизавета Петровна, проживая в своём подмосковном имении Перове, и не думала возвращаться в город. Она даже рада была, что её все оставили в покое и она могла жить такою жизнью, какая ей нравилась.
Вдали от придворной жизни, от придворных козней и интриг, она отдыхала душой на лоне сельской природы, к которой чувствовала какое-то особое пристрастие. Окружённая небольшим штатом искренно преданных ей людей, она жила самою спокойною жизнью, поздно вставая, ещё позже ложась спать, целые дни проводя или на селе, или в громадном саду, окружавшем перовский дом. Она страстно любила простые деревенские песни, и каждый день в её саду звенели молодые девичьи голоса, слышались звуки бандуры и балалайки, слышался её весёлый, беззаботный смех.
Московские гости навещали её очень редко, да она и не любила их наездов, потому что эти визиты всё-таки растравляли её сердечные раны. Ей волей-неволей приходилось заводить разговоры о придворных делах, волей-неволей приходилось отвечать на неизбежные вопросы, почему она не возвращается в Москву. Особенно в этом отношении ей надоедал Алексей Юрьевич Бибиков, несмотря на свои шестьдесят лет, поклонявшийся ей и считавший своим непременным долгом приезжать к ней хоть раз в неделю, сообщать все придворные новости.
В последний раз он положительно даже надоел Елизавете Петровне: и своей старческой любезностью, и нескончаемыми рассказами о том, что делается в Москве.
– И к чему вы мне всё это говорите? – набросилась на него наконец Елизавета. – Совсем мне это неинтересно знать, и слушать-то я этого вовсе не хочу!
– Ну как так, матушка, ваше высочество, неинтересно! – возразил Бибиков.
– Верьте слову, никакого интереса нет.
– Ну уж простите, не поверю! Чай, государь император не чужой вам: племянник небось родной… А ведь он совсем ребёнок. Кроме вас, доброго-то родственного совета ему никто не даст.
– Так вот вы и дайте.
Бибиков испуганно замахал руками.
– Что вы, что вы, матушка, нешто это возможно! Да я не посмею.
– Да почему же не посмеете?
– Как можно! И не послушает он меня, да и Долгорукие меня живьём съедят. Чай, вам ведомо, в какой они силе. Своя-то шкура каждому дорога!
Елизавета весело расхохоталась.
– Ну вот то-то же, Алексей Юрьевич! Сами до того договорились. И меня государь не послушает, и меня Долгорукие живьём съесть могут, так к чему же мне на их зубы лезть!
– Ну как так, ваше высочество! – заметил Бибиков, – чай, вы государю-то тётка.
– Так что ж из того? Было время, когда меня Петруша слушался, это точно, а теперь куда же мне мешаться в дела! Что хотят, то пусть и делают… Бросим об этом разговоры вести да пойдём-ка лучше в сад. Ишь, день-то какой нонче выдался! Ровно бы и не сентябрю впору! Пойдём-ка, старинушка! Послушаем, как нам девки песенки попоют. Хорошо они у меня поют, – так за сердце и берёт иной раз!
И она почти бегом направилась к стеклянной двери, выходящей на галерею, а оттуда спустилась прямо в сад. Денёк действительно выдался на славу. Яркое солнце сильно пригревало землю и словно расплавленным золотом обливало пожелтевшую и покрасневшую листву деревьев, наполовину уже оголённых. Яркая зелень травы на лужайках поблёкла, и на ней целыми кучами валялись опавшие листья, словно хороня под своим жёлтым ковром промокшую от осенних дождей землю, которую теперь леденил своим дыханием холодный северный ветер. Безоблачное небо, голубым плащом раскинувшееся над головами, тоже, казалось, поблёкло и потеряло свою яркую летнюю окраску. Природа умирала, и следы её медленной агонии сказывались на всём. Сломанные ветром сучья валялись на тропинках; цветы на клумбах печально склонились к земле, точно понурив свои облетевшие, словно смятые суровою рукою времени, головки. Птичьего гомона не было уже слышно, и ему на смену жалобно, точно шепчась друг с другом, шумела ещё уцелевшая листва под набегами резкого ветерка да роняла капли недавно прошедшего дождя, точно плача о своей скорой смерти. Елизавета Петровна в сопровождении Бибикова дошла до небольшой лужайки, затерявшейся в глубине берёзовой рощи. Здесь около беседки в живописном беспорядке группами расположились деревенские девушки, давно уже поджидавшие её прихода. При её появлении они все разом поднялись со скамеек и гурьбой повалили к ней навстречу.
– Здравствуйте, касатки, – ласково приветствовала их Елизавета Петровна.
– Здравствуй, матушка, ваше высочество, солнышко наше красное! – хором откликнулись девки.
– Чай, заждались меня? Вот на сего старичка пеняйте, – показала Елизавета на Бибикова, – это он меня позадержал.
– Не велика важность, государыня, и подождали! – отозвалась одна из девок побойчее. – Хоть век рады ждать, лишь бы твоё личико пресветлое увидеть! Что ж, матушка, прикажешь запевать?
– Запевай, запевай, Аграфена! Вот и старичок мой вашего пенья послушает. Вот видишь, Алексей Юрьевич, – обратилась она к Бибикову, – на что мне другие развлечения, коль у меня здесь такие забавы есть. Песен захочу, – так девки что твои соловьи зальются! Надоест пенье, – хороводы водить заставлю… А коль и это прискучит, – так у меня такие плясуны есть, что, глядючи на них, все косточки ходуном заходят, да и сама в пляс пустишься!
– А и важно пляшет государыня-матушка! – вступила в разговор Аграфена. – Никому супротив неё так не сплясать.
– Так вот, – видишь, какое у меня веселье, старинушка?
– Развесёлое житьё! – с едва заметным оттенком иронии заметил Бибиков.
Елизавета подметила эту иронию и вспыхнула.
– Конечно, развесёлое! – резко сказала она. – Уж не то что на куртагах! Ещё при батюшке покойном, пожалуй, и взаправду веселились, а теперь что! Так – кислота одна! А я, брат, этого не люблю. Я, сударь мой, совсем русский человек, и коль веселюсь уж, так веселюсь так, что небу жарко становится! Ну девушки, – повернулась она к своим певуньям, – затягивайте, да весёлую…