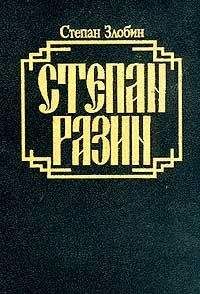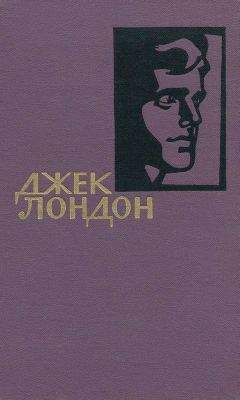— Кто таков? — резким голосом надменно спросил он.
За спиной воеводы Степан увидал испуганное лицо астраханского немца-пристава и разразился внезапным хохотом.
— Ты что же, немецкая бобка, молчишь, не сказал воеводе, кто в город пришел? — Степан повернулся к Унковскому. — А ты меня не признал? — насмешливо добивался он. — А я ведь тебе задолжался. Да вот ведь я кто! — неожиданно крикнул Разин и с силой рванул его за бороду, так что воевода всем телом мотнулся вперед…
В толпе только ахнули от такой неожиданной выходки атамана. Унковский взвизгнул от боли и в страхе отпрыгнул в сени, стараясь захлопнуть дверь, но Степан ее придержал сапогом.
— Тпру, стой! — повелительно грянул он. — Куды ты уходишь? Али я тебя отпустил?! Теперь ты признал меня, так ответ держи: почему беззаконье творишь, собака?!
Хмель кружил голову Разина. Удивление толпы его дерзостью, испуг воеводы, перед носом которого Степан размахивал пистолем, посиневший от ужаса Видерос в воеводских сенях — все это еще больше задорило захмелевшего атамана.
— Какое мое беззаконие? — пролепетал воевода, как заколдованный, не в силах отвести глаза от дула пистоля в руках Степана.
— Перво твое беззаконие, что донских казаков бездельно держал в тюрьме, пищали у них отымал, лошадей, телеги… — начал Степан.
— Помилуй… — попробовал перебить его воевода.
— Не помилую! Далее слушай: другое твое беззаконие, что на вино в кабаке корыстно цену троишь. Чья цена на вино — твоя али царская?! Прибытков с царской казны захотел, вор, разбойник?! — наступая на воеводу, грозно выкрикивал Разин. — Вот я тебя батожьем сейчас на торгу!.. По «государеву делу» на виску пойдешь к палачу, ворище, корыстник!.. Иди пиши от себя к кабатчику, чтобы по царской законной цене торговал! — приказал Степан. — Ну, чего еще ждешь?!
Воевода попятился в дом.
— Сто-ой! — крикнул Разин. — Еще пиши от своей руки в съезжую, чтобы отдали там казачье добришко — пищали, да лошадь с телегой, да что там еще… А станешь еще своеволить — я с Дона наеду и шкуру с тебя спущу да закину к рыбам! Ты тихо, смотри, живи. Посадские жалятся на твои неправды… Иди пиши! Что столбом стоишь?
— Ах ты, сокол ты наш! Вот как ты воевод-то, бояр шугаешь! — воскликнул Силантий Недоля, успевший сюда прибежать из тюрьмы. — Да дай я тебя обойму за весь Дон! — Сквозь толпу протолкался Недоля к Степану и обнялся с ним. — Ах, сокол ты наш, удалец! — приговаривал он, глядя, как и весь народ, на Разина полными удивления и восторга глазами.
Воевода вынес записки к кабатчику и в приказную избу, чтобы отдали отнятое имущество казаков. Руки его дрожали.
— Ладно, ты не трясись, — сказал ему Разин. — Живи тихо, честно, никто тебя не обидит… А Разин тебе не вор, казаки не лазутчики — понял?! До завтра гостим у тебя, а там — на Дон. Да и тебе бы градских ворот запирать не велеть: мы с горожанами ныне всю ночь гулять станем.
Степан сошел с воеводского крыльца, и весь народ повалил за ним к Волге…
Разинцы разгружали свое добро, прощаясь с судами, которые вынесли их снова к родным берегам. Со стругов снимали боевую добычу и пушки. Суда оставались лишенными парусов, безлюдные, мертвые. Есаулы успели купить в Астрахани и в Царицыне легкие челны, чтобы двигаться на Дон.
Никита сидел с атаманом на готовой к отплытию оснащенной ладье, где был расставлен атаманский шатер.
— В Яицкий город к тебе я хотел ворочаться, меня схватили — в тюрьму: мол, казак! Я говорю: «Не казак, а гулящий». С год держали, пустили на волю, — врал Степану Никита. — В ту пору знали уж все, что ты ушел в море. Я в Астрахани поверстался в стрельцы. Пришла тебе царская милость, И довелось мне в корчме услыхать, что воеводский брат царской бумаги не хочет знать да тебя убить прибирает людишек. Я его у корчмы побил, хошь верь, хошь не верь. Оглоблей бил по рукам, по ногам, по башке — не убил! Окаянный, боярская сила, он ожил! Я — в бега. Мыслю — на Дон… Ан тут, в Царицыне, воевода велел хватать, кто с Волги на Дон идет. Схватили меня, как беглого, а покуда сидел в тюрьме, и бумага из Астрахани пришла: писали меня ловить за убойство. Признали… А ты подоспел!..
— У какой корчмы ты лупил воеводского брата? — спросил Степан.
— За стеной, у кладбища, старухи Марфы корчма.
— Правду молвил во всем, казак. Слыхал я, что ты побил воеводского брата. Да в ту корчму после они меня заманили, хотели побить, и стрелецкого сотника там казаки убили на улице за меня, а Михайла ушел.
— Погоди, атаман, от меня не уйдет! — злобно сказал Никита.
В это время в челне со стрельцами к разинской ладье подошел астраханский пристав. Тимошка сказал, что он хочет видеть Степана. Разин вышел к нему из шатра.
— Здорово, немецкая бобка! Ну, примай стружки да пиши мне запись, что я их отдал, — сказал Степан. — А воевода, дурак-то, страшился, что я их с собой унесу, по суше!
Видерос указал в отчаянии на пустые струги.
— Фалконеттен… Канонен… Пушка! — бормотал он. — Воевода, боярин, княссь указал…
Разин захохотал.
— Вот что, усатое чучело: хоть твой воевода боярин да князь, а я всех князей больше! Я казак! А ты, чучело, ведаешь, кто то — казак?! Дурак воевода велел тебе пушки мои взять? А ты спросил его, что же он сам не взял? Я две недели стоял у него и пушки увез, а немецкой блохе покорюсь да пушки оставлю?
Видерос хотел снова развернуть воеводский наказ, но Степан пригрозил ему кулаком.
— Ты опять за свою «уни-мать»?! Я такую тебе «унимать» покажу, что родную свою не узнаешь! Пошел прочь отселе! Тимошка, гони!..
… На рассвете челны тронулись вверх по Волге, к Камышинке. Полы атаманского шатра были спущены. Казаки говорили, что батька спит, а в это время Степан Тимофеевич всего с десятком своих казаков скакал прямиком от Царицына к Зимовейской станице, перегоняя ладьи, и конный обоз, и пешие толпы людей, увязавшихся по пути за его войском…
Вокруг двора Разина по-прежнему бродили бездомные беглецы из российских краев, они до последнего времени передавали Алене слухи о муже. Теперь он был уже словно и не казак, а какой-то сказочный великан Вертидуб или Свернигора, про которого еще мать Алены рассказывала ей сказки. Говорили, что он потопил во Хвалынском море тысячу кораблей кизилбашского шаха, взял десять тысяч пленников и поменял их у шаха на русских людей, томившихся в басурманской неволе. Зато теперь у него несметное войско, ему бьют поклоны и воеводы и за столами садят его в красный угол…
И вдруг на несколько дней прервались все вести, беглецы приумолкли и будто бы даже несколько отшатнулись от разинского двора, словно что-то таили от Алены… Алена Никитична насторожилась, но ни о чем не могла дознаться. Вдруг Гришка принес со двора какую-то странную весть: будто батька хочет жениться на кизилбашской царевне…
— Что ты, глупый, плетешь! Кто там женится от жены да детей!
— Мужики ить сказали! — воскликнул Гришка, только теперь догадавшись о том, что принесенная им весть испугала мать. — Ты, матка, пусти меня, я к нему съеду, уговорю не жениться! — стал он просить, чтобы исправить свою оплошность.
— Не турка твой батька! Пустое плетут про него! — в сердцах сказала Алена, но сама затаила заботу, в задумчивости то и дело напевая про себя тоскливую песню про «былиночку, сиротиночку», которая стоит над рекой.
Над рекой стоит
Да в реку глядит,
Дал мне бог красы,
Сиротиночке…
А кому краса
Моя надобна?! —
пела Алена и не раз повторяла последние, самые печальные слова:
А кому краса
Моя надобна?!
— Ну кому же еще! Мне и надобна! — услышала вдруг она под окном дорогой и любимый голос.
Степан не поехал улицей. Сопровождавших его казаков он разослал, кого куда, по разным станицам, других отпустил до вечера по домам, сам же пробрался задами по огородам и оказался внезапно под самым окошком… Приветливо и любовно смеялись его глаза.
— Стенька! Стенька! Степанушка! — словно в смертельном испуге, закричала Алена. — Родной ты мой! — задыхаясь от счастья, залепетала она. — Под окно прилетел да горе мое подслушал… Да что же ты там, во дворе… Ой, прямо в окошко!..
— В дверь-то к желанной далече! — смеясь, ответил Степан.
Большой, нарядный, веселый, он обнял ее и стоял, заглядывая ей сверху в лицо. Он глядел прежними любящими, молодыми глазами. От счастья и радостного смущения Алена вдруг растеряла слова и говорила совсем не то, что хотела. Она по-девичьи гладила его ладонью по рукаву, не решаясь коснуться ни руки, ни лица…
— Алешка, ты что? — ласково спросил муж, заметив ее слезы.
— Сказали, ты счастье иное нашел, не вернешься, — шепнула она.
— Да что ты! Куды ж мне иное-то счастье! — ответил Степан. — Сколь нарядов ни сменишь, а сердце одно… И ты мне одна на свете!
— Не покинешь нас больше? — тихо спросила Алена, прямо взглянув в его глаза.