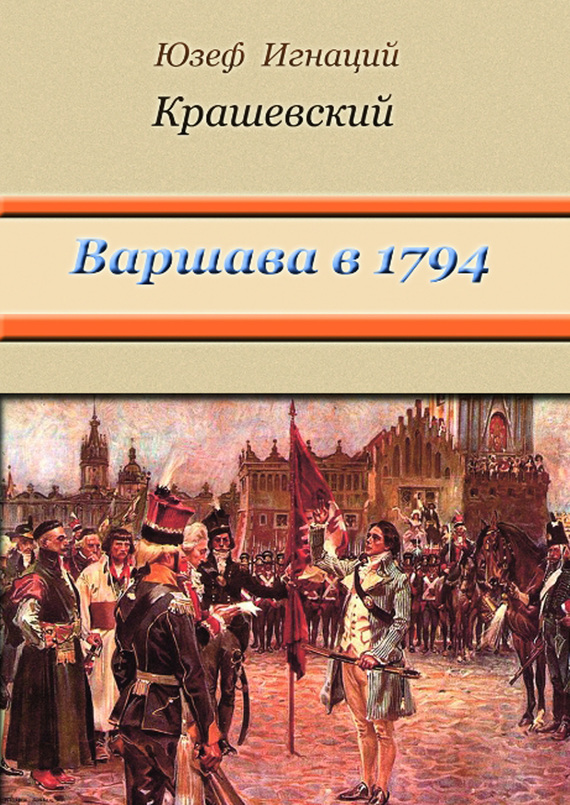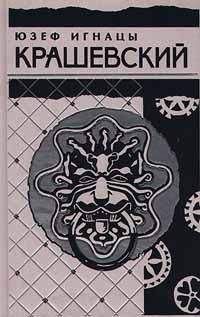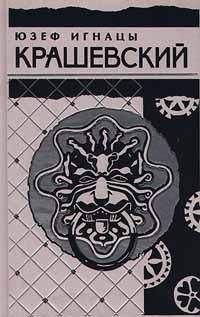ли придёт утро.
Тот, кто приоткрывал заслону шатра, чтобы увидеть ночь, её затем опускал – темнота была непроницаемая. Туман сгущался, хоть ножом режь.
Климчу было скучно.
– Если бы нам кто-нибудь хоть сказки рассказал, – отозвался он.
– Тогда бы мы их не слушали, – отпарировал Добек, – во мне одно говорит и я только то слышу: Месть! Месть!
– Я бы готов в кости играть, – рассмеялся Климч, – чтобы эту ночь как-то пережить.
Все задвигались, но Ремиш положил руку на щит, что служил столом.
– Сохрани Боже! – воскликнул он. – Скорей бы молиться! А всё-таки это торжественный день, как канун праздника.
– Правда, – ответил Огон, – кости для другого времени…
Он отклонил заслону шатра. Темно было – и тихо.
Даже от лагеря тевтонцев не доходило уже ничего, кроме двигающихся коней при желобах и лая собак, которых крестоносцы привели с собой.
В шатре залегло молчание. Долгое ожидание превращало в камень… но каждый боялся замкнуть глаза… и те, что сидели немного вдалеке и мимовольно задремали, затем вставали, чтобы не дать себя захватить снам.
То один, то другой заглядывал во двор… не видя ничего.
– Пожалуй, ночь никогда не кончится, – воскликнул отчаявшийся Ремиш. – Как жив, даже ближе к праздникам такой ночки не помню. Крестоносцы её, пожалуй, специально для себя сделали.
Он замолчал… Все насторожили уши, Добек шибко отдёрнул заслону у входя. Где-то вдалеке что-то было слышно… вроде бы тяжёлые шаги в мягких облаках, вроде бы приглушённое качение чего-то по земле…
Не ошиблось их ухо, в глубине этой ночи что-то двигалось, медленно, осторожно, далеко…
Движение это переставало, замолкало, исчезало и возобновлялось…
Старшие задвигались…
– Славек, по шатрам! Пусть не спят, уже что-то слышно…
Сандо и Славек оба выбежали. Из открытого шатра выглядывали любопытные головы, прислушиваясь.
Глухой этот грохот возобновлялся, но ни дня, ни рассвета на небе видно не было…
Ночь не имела конца.
VII
Рассветало, но была ещё ночь, только из чёрной темнота переменилась в белую. В этом сером покрывале глаз также разглядеть ничего не мог, как раньше в чёрной ничего не видел.
День приходил неизвестно откуда, а туман казался всё больше оседающим, а холод пронимал до костей. Влажность обливала всё, свет был мокрый, словно погружённый в воду.
В польском лагере, казалось, всё спит – но ни одни веки не закрылись ни на мгновение. Немцы пировали долго и спали крепко.
Даже их стражи сели на землю, завёрнутые в плащи, и каменели от усталости.
Над шатром маршала большая хоругвь ордена висела также, как спящая, промокшая… и исчез с неё тот крест, которым позорила мир. Порезанная в чёрные и белые полосы, она казалась траурным вымпелом, повешенным над могилой.
Вдалеке по-прежнему что-то было слышно… как если бы разбуженное море шло заливать землю… и этот приглушённый шум именно так, как волны, был прерываем.
Немцы спали – кроме Теодориха, который молился перед образом Богородицы. Два спутника стояли у его двери.
Наконец он встал с коврика для молитв, и, набросив на плечи плащ, пошёл через пустой шатёр к выходу. Ухо его ухватило тот шум волны… тот какой-то глухой топот.
Он остановился, выпрямился и побледнел.
Он открыл выход – и глаза его остановились…
В лагере на расстоянии шага ничего не было видно, а наполовину окутанная туманом ближайшая стража, сидела как окаменелая.
Его брови грозно стянулись…
В эти минуты медленный топот начал так отчётливо доходить до него, что стоящего спутника он схватил за руку.
– Побудка! – крикнул он. – День! Всё спит… Ударить побудку…
Среди тишины голос маршала раздался глухо и, заглушённый в воздухе, который идти ему далеко не дал, погас у порога.
Спутники побежали за стражей…
В долине ржали кони и как бы звенело оружие. Откуда? Чьё? Свои глаза – чужие? Маршал распознать не мог. Он почувствовал в сердце тревогу и какое-то предчувствие – угрозу опасности, в которую до сих пор не верил.
Призрак Локотка встал перед его очами. Он был почти уверен, что это приближается он, пользуясь туманом и тяжестью его людей, долгими ограблениями безоружной страны утомлённых и обессиленных.
– На коня! – воскликнул он, хватая за плечо подходящего тевтонского полубрата в сером плаще, Юргу. – На коня и в галоп за Оттоном Лутербургом, чтобы мне в помощь поспешил. Поляки подходят.
Юрга стоял задумчивый, потому что никто их не слышал, не видел. Теодорих их предчувствовал.
Как стоял едва наполовину и легко бронированный, первого коня, который ему попался, он схватил и оседлал. Был это иноходец одного из стражей лагеря, спящего под шатром.
Маршал вскочил в седло, а было это знаком для двух его компаньонов, которые никогда его покидать не имели права, чтобы, также схватив коней, направились за ним.
Теодорих погнал в ту сторону, из которой доходил более отчётливый цокот копыт. День всё более очевидно прояснялся, но оседающий на землю белый туман не давал ничего видеть в нескольких шагах.
Маршал проехал сквозь шатры и возы и отважно пустился в долину… Здесь топот коней и лязг доспехов слышался отчётливей; но напрасно он напрягал взгляд… нигде никаких передних часовых заметить не мог.
Боязнь за судьбу отряда, который бы, потеряв в нём вождя, легко мог распоясаться, не позволяла ему слишком далеко идти. Он замедлил шаг…
Затем из густого тумана начало выныривать несколько всадников.
Хорошо вооружённые, в железных шлемах, с лёгкими копями в руках, на конях, покрытых железной сеткой, они медленно двигались… наполовину ещё покрытые туманом.
Для маршала достаточно было их вида, дабы то, что объявлялось в нём как предчувствие, стало для него очевидностью.
Краковский король подходил к их лагерю!
Теодорих развернул коня и стремительно бросился назад, и, добежав до первых шатров, начал кричать громким, отчаянным голосом:
– На коня! На коня!
Люди, схваченные этим призывом среди сна, выбежали, неодетые, из шатров, потеряв присутствие духа, хватая и бросая, на что натыкались.
Командиры, пробудившиеся быстрей, крутились среди лагеря с поднятыми мечами, колотя плашмя ими медлительных, нанося удары по шатрам, приказывая трубить и крича:
– К оружию! На коней!
Непередаваемый переполох в мгновение ока затронул весь, ещё минуту назад покоящийся в глубоком сне, лагерь.
Неприятеля видно ещё не было, но все чувствовали его на шее.
Теодорих, не спешиваясь, скакал по кругу.
Он приказал свой обозик опоясать железными цепями, которые могли выдержать первый натиск, чтобы дать рыцарству время вооружиться и встать в шеренги.
Солдат, который так долго имел дело с безоружным людом и набрался безмерной наглости, схваченный неожиданной опасностью, – частью в неё не верил, частью оказался