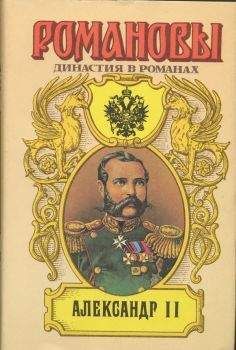Инстинкт самосохранения толкал вперёд князя Болотнева. Он стал из последних сил карабкаться на гребень и вдруг услышал голоса.
Сон?.. Галлюцинация?.. В глазах туман, в ушах гул и слабое сознание: нужно сделать ещё усилие и подняться во что бы то ни стало, подняться ещё немного. Нужно посмотреть, что там, за гребнем?
Поднялся.
Совсем близко, шагах в пятидесяти, по скату горы вьётся узкая дорога, и по ней чернеют, белеют, сереют занесённые снегом люди. Солдаты, с лямками на плечах, впряглись в орудие, другие ухватились руками за колёса, натужились – и тяжёлая батарейная пушка с коричневым, в белом инее, телом вкатилась на гору. Офицер, в лёгкой серой шинелишке, с лицом, укрученным башлыком, распоряжался.
– Вторая смена, выходи, – крикнул он, повернулся и увидал спускавшегося с кручи Болотнева.
– Кто вы? Откуда?! – крикнул он и, поняв состояние Болотнева, снова закричал: – Эй, послать скорее фельдшера пятой роты сюда. Идёмте, поручик… Совсем ознобились? Так и вовсе замёрзнуть недолго.
В изгибе дороги горел в затишке у песчаного обрыва костёр. От огня песчаная круча обтаяла, и было подле неё тепло, даже жарко, как у печки. Здесь сидело несколько офицеров и солдат отдыхавшей смены. У кого-то нашлась во фляге водка. Услужливый солдат-гвардеец одолжил Болотневу кусок чёрного сухаря. Оттёрши губы – они не повиновались князю, – Болотнев рассказал, кто он и зачем послан.
– Это и есть колонна генерала Философова, – сказал офицер, угощавший князя водкой. – Вы в лейб-гвардии Литовском полку. Благодарите Бога, что так удачно вышли. Отогревайтесь у нас. С нами и пойдёте.
В тепле костра отходили иззябшие члены. Нестерпимо болели ознобленные пальцы, клонило ко сну, и то, что было вокруг, казалось странным, чудодейным сном.
В стороне стояли отпряжённые, обамуниченные артиллерийские лошади. По дороге вытянулись передки и орудия. Рослая прислуга гвардейской артиллерийской бригады и солдаты-«литовцы» по очереди на лямках и вручную тащили орудие за орудием по обледенелому подъёму на гору.
Снег перестал сыпать. Стало потише. Солдат принёс охапку сучьев и подбросил в огонь. Пламя приутихло, сучья зашипели, белый едкий дым повалил в лицо Болотневу, потом пламя победило, заиграло жёлтыми языками. Тёплый синеватый воздух заструился перед глазами князя. Всё стало казаться сквозь него необыкновенным, точно придуманным, стало превращаться в сложное, необычайное сновидение.
Откуда-то сверху закричали:
– Посторонись!
– Обождите маленько! Дайте проехать…
С горы на осклизающейся лошади ехал казак в помятом, порыжелом кителе, замотанный башлыком и какою-то красною шерстяною тряпкой. Казак был в ватной рваной теплушке неопределённого цвета, с ловко прилаженной на поясной портупее шашкой, с винтовкой в кожаном чехле за плечами. Он держал в руке большой чёрный узел. За ним верхом на казачьей лошади ехал пожилой священник в меховой шапке и шубе на лисьем меху.
Казак остановил лошадь как раз против Болотнева и сказал:
– Слезайте, батюшка. Тута оно и будет. Самое это место. Вот и метка моя.
Казак показал на молодую осину, росшую с края обрыва. На ней ножом был вырезан восьмиконечный крест. След ножа был совсем свежий, белый, не успевший покраснеть.
Офицеры и с ними Болотнев подошли к краю пропасти. Чёрные скалы отвесно ниспадали вниз. Далеко, в глубине, курилась и мела метель. Всё было бело и пустынно.
Священник слез с лошади. Казак привязал свою и священникову лошадь к дереву, развязал узел и подал священнику бархатную скуфейку, епитрахиль[199], крест и кадило и, подбросив из костра уголька в кадило, раздул его. Потом раскрутил свой башлык и тряпку и снял кивер. Зачугунелое от мороза, тёмное лицо под копною непокорных русых волос стало сурово и торжественно.
– Пахом? – оборачиваясь к казаку, спросил священник.
– Пахом, батюшка… Пахом его звали. Нижне-Чирской станицы казак Пахом Киселёв.
Священник кадил над пропастью. Он пел жидким тенором, казак, задрав голову, вторил ему, упиваясь своим голосом.
– Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, – звучало над пропастью подле потрескивающего костра похоронное пение.
– Житейское море, воздвизаемое зря, – начинал священник.
И казак жалобным, точно воющим голосом подхватывал:
– Напастей бурею.
Оба голоса сливались вместе умиротворённо:
– К тихому пристанищу, к Тебе прибегох.
Офицеры и солдаты-«литовцы» стояли кругом, сняв фуражки.
Всё это было так необыкновенно, странно и удивительно.
– Вечная память!.. Вечная память! – заливался казак с упоением, и теперь ему вторил священник и крестил пропасть крестом.
Священник взял ком снега и, глядя вниз в жуткую бездну пропасти, бросил его со словами:
– Земля бо еси и в землю отыдеши.
За священником бросил ком снега казак и потом стали бросать офицеры и солдаты. Все набожно крестились, ещё ничего не понимая.
– У-ух, – сказал кто-то из офицеров, глядя, как долго летел, всё уменьшаясь, ком снега.
– Глыбко как, – сказал солдат.
Казак принял от священника кадило, скуфью и епитрахиль и увязывал всё это в узел. К казаку подошли офицеры.
– Что тут такое случилось, станичник?
– Дык как же, – сказал казак, привязывая узел к седельной луке. – Сегодня ночью это было. Ехали, значит, мы от генерала с пакетом. А у его, у Киселёва то ись, конь всё осклизается и осклизается. Я ему говорю: «Ты, брат, не зевай, придерживай покороче повод». Гляжу, а его конь, значит, падает у пропасть. Я кричу: «Брось коня! Утянет он тебя», а он: «Жалко, – говорит, – коня-то – доморощенный конь-то» – и на моих глазах и опрокинулся с конём в бездну. Я стою, аж обмер даже. Ухнуло внизу, как из пушки вдарило. Я слушаю, чего дальше-то будет? И не крикнул даже. И тут враз и метель закурила. Ну, я вот пометку сделал на дереве, чтобы отслужить об упокоении раба Божия… Чтобы, значит, всё по-хорошему, родителям сказать, что неотпетый лежит он у пропасти. Спасибо, батюшка, поедемте, что ли. Путь-то далёк.
Священник взобрался на лошадь, и оба поехали наверх и скрылись в лесу, за поворотом дороги.
Были? Не были? И были, как не были. Так и потом князь Болотнев, вспоминая всё это, не знал – точно всё это было или только приснилось в морозном сне у костра.
На ночь было приказано стать, где стояли, вдоль Старо-Софийской дороги. Уходя далеко вниз, извиваясь по краям дороги, засветились костры. Кое-где раскинули палатки. Старый полковой доктор Величко переходил от костра к костру, осматривал и оттирал ознобленных.
Князя Болотнева пристроили к пятой роте штабс-капитана Фёдорова. И только офицеры устроились, уселись вокруг костра, как в отсвете появилась высокая фигура командующего 2-м батальоном капитана Нарбута.
– Вы вот что, господа, прошу не очень-то тут разлёживаться. Ознобленных много. Потрудитесь по очереди каждые полчаса обходить роты и не позволять, чтобы солдаты засыпали. Народ приморился, а мороз жесток. Доктор Величко сказал: уже за восемнадцать градусов перевалило. Долго ли до греха. Заснёт и умрёт. И самим не спать.
– Трудновато, господин капитан, – сказал Фёдоров.
– Будем, Иван Фёдорович, мечтать, – вздыхая, сказал белокурый, безусый молодой офицер, с такими нежными чертами лица, такой хорошенький, с таким глубоким, грудным женским голосом, что его можно было принять за переодетую девушку. – Мечтать о камине, о горящих письмах, искрах пережитой любви, пережитого счастья, о знойном юге, об александрийских египетских ночах и смуглых красавицах, полных африканской страсти.
– Поэт!.. Мечтать о пережитой любви!.. В твои-то годы, Алёша!.. Сочини нам лучше стихи, а мы их на песню положим и будем петь в нашей пятой роте.
Алёша покраснел и застыдился. Капитан Нарбут пошёл дальше по ротам. Из тёмной ночи в свете костра появился красивый ефрейтор. Он принёс дымящийся паром котелок и, подавая его офицерам, сказал:
– Ваше благородие, извольте, кому желательно, сбитеньку солдатского, горячего.
Застучали о котелок жестяные кружки и мельхиоровые стаканчики.
– Славно!.. Спасибо, Игнатов. В самый раз угодил.
– Рад стараться. Допьёте, я ещё вам подам.
– Ну так как же, Алёша, стихи?
– Зачем мне сочинять, когда давно и без меня сочинили стихи, так подходящие к тому, что теперь совершается.
– А ну? Говори…
– Читайте, Алёша.
– Мы идём на Константинополь, господа. Мы возьмём Константинополь! А двадцать два года тому назад сочинили на Дону про это такие стихи.
Алёша распевно, стыдясь и смущаясь, стал говорить. Солдаты придвинулись к костру и слушали, как читал стихи Алёша.
Стойте крепко за святую
Церковь, общую нам мать.
Бог вам даст луну чужую
С храмов Божиих сорвать.
На местах, где чтут пророка,
Скласть Христовы алтари,
И тогда к звезде Востока
Придут с Запада цари.
Над землёю всей прольётся
Мира кроткая заря,
И до неба вознесётся
Слава русского царя!
– Вот, – совсем по-детски заключил смущённый Алёша.