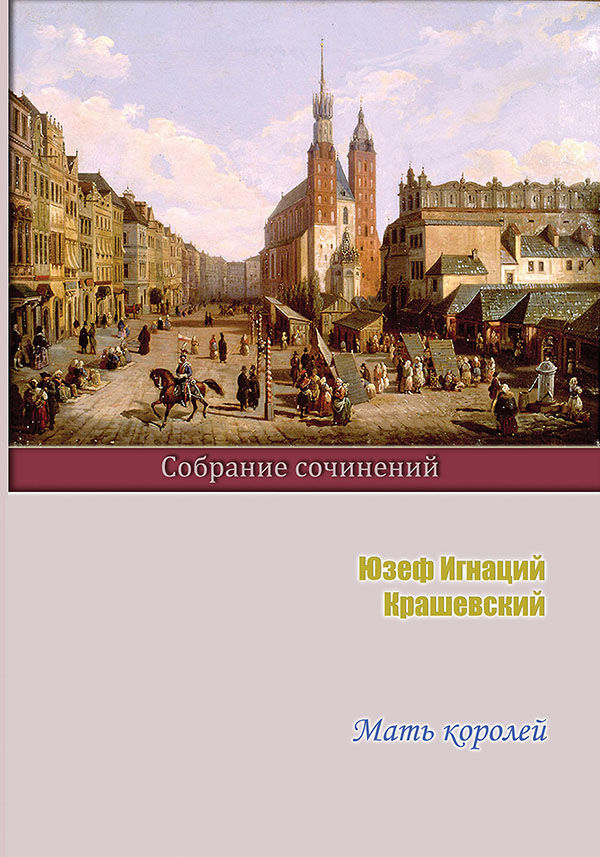в первый день за общим маршалковским столом, когда начали пить за здоровье, одни вставали, другие выливали вино. Однако молодой король сразу сурово наказал, чтобы из его окружения никто первым не дал повода к столкновению. Бона и её люди также были осторожны. Взаимно обходились молча, оскорбляя друг друга глазами и бросая вызов. Один на один с матерью он ни разу не остался, она тоже не вызывала к этому. Старый король усердно расспрашивал о невестке, ему говорили, что она чувствует себя лучше и что кланялась в его ноги и передавала привет.
Август не хотел там остаться надолго, и тут же начались подсчёт, взвешивание и написание гарантий и расписок. Но нашлись формальности, не хватало бумаг, точно специально оттягивали окончание и отъезд обратно в Литву.
Сначала король от Елизаветы почти каждый день получал письма. Писала она, доносили урядники о здоровье королевы и не было никаких тревожных вестей.
С дьявольской злорадством Бона каждый день при старом короле спрашивала сына:
– Как чувствует себя королева? У вас были новости?
В её голосе была насмешка и как бы предсказание несчастья, ожидание его.
В конце концов уставший Август отвечал матери только невнятным бормотанием, а Сигизмунд Старый поднял уставшие глаза на Бону, но упрекать её не смел; разве можно было упрекать её за заботу о здоровье снохи?
Пребывание Сигизмунда Августа уже подходило к концу, говорили об отъезде, когда из Вильна внезапно перестали приходить письма и приезжать послы. Поначалу это не поразило, не пробудило беспокойства, но после нескольких дней молчания молодой король начал тревожиться.
Мать всё время преследовала его тем издевательским вопросом, на который, теперь она это хорошо знала, не получит ответа, потому что она также имела своих слуг в Литве.
Сигизмунд Старый проявил беспокойство и уже хотел посылать в Вильно. Но тогда потребовалось бы около двенадцати дней, чтобы был ответ, а письма каждую минуту были ожидаемы.
Среди двора молодого короля всё более очевидное беспокойство переродилось в подозрение, что Бона перехватывала письма. Некоторые рвались ехать, чтобы привезти новости. Август молчал, пытаясь справиться со своим беспокойством, какое его охватывало.
Однажды, когда Бона, стоя рядом с Сигизмундом, вновь бросила тот издевательский вопрос сыну, Август, выведенный из себя, забормотал:
– Ваше величество, вы так же, как я, знаете, что у нас нет новостей из Литвы.
– Мне было это неизвестно, – ответила Бона холодно.
Поздним вечером Август сидел в своих покоях в небольшом окружении урядников и старых знакомых, когда на пороге появился, избегающий теперь молодого государя, Опалинский и с таинственным выражением лица объявил ему, что королева-мать просила его к себе.
В этом приглашении было что-то такое чрезвычайное, грозное, непонятное, что в первую минуту Август заколебался, быть ли ему послушным.
Но Бона в глазах людей всегда была его матерью, её нужно было уважать. Не говоря ничего, он встал и пошёл за Опалинским, который, довольно долго идя с королём, не промолвил ни слова, а Август, чувствуя в нём неприятеля, разговаривать с ним не хотел.
На пороге комнат старой королевы Опалинский исчез.
Бона не сидела, как обычно, на своём кресле, выстеленном и приподнятом наподобие трона.
Нахмуренные брови напрасно старались сделать это лицо мрачным – губы искривила ироничная усмешка. Так смеяться мог только палач, глядя на свою жертву, лежащую в путах у его ног.
Август приблизился. Бона, словно для того, чтобы продлить минуты неопределённости и тревоги, молчала; она была похожа на збира, который думает, как можно глубже погрузить стилет в грудь приговорённого.
– Вы велели мне прийти, – простонал сын.
– Да, я хотела вам усладить печальную новость, какая из уст матери не покажется такой горькой, потому что эти уста заранее её предсказывали. Королева Елизавета, жена ваша, умерла.
Август стоял как вкопанный, смертельная бледность покрыла его лицо, не мог найти слов. Было это новое коварство, заслонённая безжалостной насмешкой.
Много времени потребовалось королю, прежде чем он смог ответить:
– Меня сурово коснулась рука Божья!
Бона приблизилась, желая, пользуясь минутой, завязать разговор и рассчитывая на сломленное сердце сына, но Август не хотел допустить, чтобы она упивалась его отчаянием и своей победой.
Он склонил голову.
– Ваше величество, – сказал он, – вы сократили ей жизнь.
Он живо ушёл и, услышав только крик за собой, побежал к своим. Но уже в коридорах его окружили придворные – прибыл гонец из Литвы. Один из них упал королю в ноги и, обнимая их, воскликнул:
– Королева! Наша королева…
– Мы молимся за её душу, – мужественно ответил Сигизмунд Август, – или, скорее, просим, чтобы она заступилась за нас перед Богом. Мученица умерла!
* * *
Именно в то время, когда Сигизмунд Август был в Кракове, на улицах города стали видеть молчаливого человека, в рваной и облезшей епанче, который, ни с кем не говоря, медленно ходил под домами, заходил в костёлы, появлялся на рынке, блуждал, словно не знал, что делать.
Некоторые, присматриваясь к нему, вспоминали какие-то знакомые черты, которые раньше видели.
Он не знал и не узнавал никого.
Однажды один из придворных королевы Боны, близко к нему подойдя и заглянув в глаза, схватил его за руку и воскликнул:
– Дудич!
Но незнакомец вырвался и не хотел с ним говорить.
Другие потом, выслеживая, узнали в нём также очень несчастного и наполовину безумного Петрка. О нём и о жене давно никто ничего не слышал.
Когда придворные объявили о нём королеве, она велела привести его к ней в замок.
– Что случилось с твоей женой? – спросила Бона.
– Я в этом невиновен! – забормотал Дудич.
– Где она?
– Наверное, в аду, – ответил Дудич.
– Умерла?
– Она всегда носила стилет у пояса, я ни в чём не виноват, – сказал Дудич.
И больше от него было трудно добиться.
Соседи Петрка рассказали, что её похоронили со стилетом в груди и окостенелой рукой на нём. Жить не хотела.
Дрезден 1883 – 4
Конец.