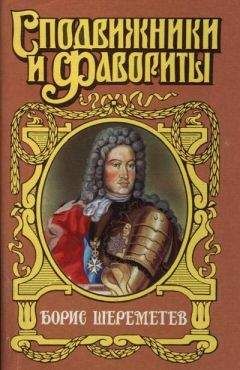— Назови мне их, — сказал Петр. — Кто?
Царевич приблизился к отцу и что-то шепнул ему на ухо.
— Хорошо, — согласился Петр. — Выйдем в соседнюю комнату.
И они удалились. Присутствующие в палате переглядывались между собой, перешептывались: «Кого он назвал?», «Не слышал», «Кажись, гроза грядет», «Да, уж будет дьяволу утешение».
Из палаты всем велено было идти в Успенский собор, дабы присутствовать при отречении царевича от наследства. Вместе со всеми проследовал туда и Шереметев. По подсказке царского адъютанта, там он встал рядом с царем и видел Алексея со спины. Он стоял пред аналоем, на котором лежала Библия.
Положив на нее правую руку, царевич читал текст отречения. Голос его дрожал, пресекался, но хорошо был слышен всем присутствующим:
— «…За преступление мое перед родителем моим и государем его величеством… обещаюсь и клянусь Всемогущим в Троице славимым Богом и судом Его той воле родительской во всем повиноваться, и того наследства никогда ни в какое время не искать, и не желать и не принимать его ни под каким предлогом. И признаю за истинного наследника брата моего царевича Петра Петровича. И на том целую святой крест и подписуюсь собственной моей рукою».
Слушая столь складный текст отречения, Борис Петрович думал: «Государева рука, он сам составлял».
Когда Алексей целовал крест, поднесенный ему архиепископом, по его щекам обильно текли слезы.
Царь наклонился к Шереметеву, молвил негромко:
— Зайдите ко мне в кабинет, Борис Петрович, после всего этого.
— Слушаюсь, государь.
Когда Шереметев вошел к царю, там уже были канцлер Головкин, подканцлер Шафиров, Стрешнев, Мусин-Пушкин, князь Прозоровский и Салтыковы, Алексей с Василием.
Царь сидел за столом, курил трубку и был хмур.
— Ну, кажется, все собрались, — заговорил он, окидывая взглядом присутствующих. — Борис Петрович, что сел у двери, как бедный родственник? Проходи, вот тут садись, ближе.
Шереметев прошел, сел рядом с Головкиным у самого государева стола.
Петр продолжал:
— Господа, утром Алексей сообщил мне имена тех, кто были советчиками в этом преступлении — побеге за границу. Я тотчас послал в Петербург курьера к светлейшему с приказом взять их за караул, оковать и доставить немедленно сюда в Москву. Здесь им будет суд и воздастся каждому по заслугам. И судить их будете вы. Да, да, да, господа. Ваш приговор им будет окончательный и не подлежит обжалованию.
«Но при чем тут я?» — подумал Шереметев.
— Кто эти злодеи, государь? — спросил Мусин-Пушкин.
— Первый и главный — Кикин.
Если б в кабинете взорвалась граната, она б, наверное, меньше поразила присутствующих. Все знали, что Кикин — ближайший друг и любимец царя, и невольно оцепенели от сообщения.
— Кикин? — вытаращил глаза Прозоровский.
— Да, да, князь, Кикин, ты не ослышался.
— Но он же ваш…
— Он предатель, князь, — перебил Петр Прозоровского, — и с ним надлежит поступать, как с изменником.
Это уже прозвучало почти приказом составу суда.
— И второй, — продолжал Петр, — это князь Долгорукий.
Царь выдержал паузу, обвел присутствующих пытливым взором. Долгоруких-то эвон сколько. Который же? Ну? И Петр, словно камень сваливая с плеч, закончил:
— …князь Василий Владимирович.
Шереметеву показалось, что у него остановилось сердце: «Как? Князь Василий? Ведь он же был самым доверенным у государя. Не может быть!»
Петр словно услышал мысли фельдмаршала.
— Ты не ослышался, Борис Петрович, — сказал царь, покосившись в его сторону. — Твой друг.
— А не оговорил ли его царевич? — наконец выдавил из себя Шереметев сомнение.
— Дыба покажет, Борис Петрович, — холодно ответил царь. — Кнут язык развяжет.
Далее Шереметев не мог слушать уже, что говорит царь, словно гвоздем долбило в голове одно: «Князь Василий? Боже мой! Да как же? Да что же? И мне судить? Да разве я могу? Да разве я имею право? Как же это он? Милый Василий Владимирович, что ж ты?»
Лишь когда все стали подниматься и направляться к выходу, Борис Петрович наконец вернулся мыслями к происходящему.
Дождавшись, когда все уйдут, только остались царь и канцлер, он сказал, обращаясь к Петру:
— Государь, ваше величество, выведи меня из состава суда, пожалуйста.
— Это почему же? — нахмурился Петр.
— Я ведь солдат, ваше величество, не судья, не палач.
И тут лицо царя исказилось, наливаясь бешенством, задергалось в гримасе.
— А я кто?! — крикнул, заикаясь, он. — Я палач?! Да? Я кто?! А?
Борис Петрович еще никогда не видел царя в таком состоянии бескрайнего гнева. Граф обмер, почувствовал, как внутри что-то оборвалось. В глазах потемнело.
Очнулся фельдмаршал на крыльце, ощутив на лбу снежинки. Его поддерживал под руку адъютант царя.
— Что со мной? — тихо спросил Шереметев.
— Ничего, ваше сиятельство. Сомлели. Там душно, вот и… Где ваша каптана?
— На Ивановской, должно.
Глава двенадцатая
НЕ СЕБЕ — ДЕРЖАВЕ
Дорого обошлось это судейство фельдмаршалу. Видеть, как на твоих глазах вздымают на дыбу человека, с которым ты совсем недавно был дружен, как лупцуют его кнутом, как кричит он, извиваясь от боли, умоляя скорее прикончить его, — это было свыше сил старого фельдмаршала. Он на войне-то никогда не смотрел работу профосов — полковых палачей, вешавших после боя трусов.
Пока терзали Кикина, Борис Петрович впадал в памороки, и подьячему приходилось бросать перо и приводить в чувство графа.
После перед коллегами по суду он оправдывался:
— Сердце слабое, а тут душно.
Не облегчило его страданий и извинение царя, которое он принес фельдмаршалу на следующий день после гнева:
— Не держи сердца на меня, Борис Петрович. Прости. Мне тоже нелегко.
— Я понимаю, государь. Все понимаю.
— Ну вот и славно. Не серчай.
Прощения просил, но из состава суда не вывел.
С Кикиным было ясно, он не только советовал Алексею, бежать, но даже приискивал ему место, где можно спрятаться от грозного отца. И когда на заседании суда Головкин произнес: «Достоин колесования», все согласились, так как понимали, что устами канцлера глаголет царь. Как тут возразишь? Хотя все знали, что колесование — это самая тяжелая и мучительная казнь.
Когда началось заседание по князю Долгорукому, канцлер предварил его кратким словом:
— Государь велел сообщить вам, господа судьи, что им получено письмо от старейшины древнего рода Долгоруких князя Якова Федоровича, в котором он просит не позорить род их клеймом злодейства, как опозорен был род Милославских. И его величество положил решение на нашу совесть.
— Ясно, — сказал Мусин-Пушкин, — кнутобойства не должно быть. Стало быть, расстреляние.
— Нет, нет, — вдруг спохватился Борис Петрович. — Я против отнятия живота. Василий Владимирович имеет великие заслуги перед отечеством, он подавил на Дону булавинский бунт, он храбро дрался на Пруте, штурмовал Штеттин. В Польше представлял особу государя в армии. И потом, как мы можем не уважить просьбу храбрейшего Якова Федоровича, который, будучи в плену у шведов, захватил корабль и с сорока соотечественниками приплыл в Ревель. Мало того, еще и пленил команду корабля.
— Гм… действительно, — покачал головой Василий Салтыков. — А я, например, не знал об этом.
— Что ж вы предлагаете, Борис Петрович? — спросил Головкин как председатель суда.
— Я предлагаю ссылку в деревню.
— Государь такой приговор не утвердит, — сказал Прозоровский.
Судьи поспорили, но недолго. Согласились на лишении званий и ссылке в Соликамск, хотя Мусин-Пушкин отчего-то настаивал на Сибири, но потом вынужден был согласиться с большинством.
Это все, что мог сделать фельдмаршал Шереметев для друга. Однако, разузнав день отправки князя по этапу, он, явившись домой, приказал принести ему корзину с крышкой, а также побольше свежих пирогов и калачей и туесок с медом.
На дно корзины Борис Петрович положил сто рублей, завернув их в тряпицу, а сверху поставил туесок и обложил его калачами и пирогами. Закрыв крышку корзины и завязав ее, Призвал к себе денщика Гаврилу Ермолаева:
— Ты помнишь князя Василия Долгорукого?
— А как же, ваше сиятельство, я ему в Польше сколь раз мундир выбивал, сапоги чистил. Он мне рубль дарил за это.
— Так вот, его завтра повезут в ссылку, ты встань пораньше, бери Каурку и гони к Семеновской заставе. Передашь ему эту корзину.
— Ой-ой-ой, такого человека в ссылку!
— Замолчи, не твоего ума дело.
— Сказать от кого?
— Ни-ни, Боже сохрани. Передашь, и все, мол, колодочнику на пропитание, стража это разрешает. Да захвати кожушок из кладовки, который попросторнее, а ну он в мундирчике одном.