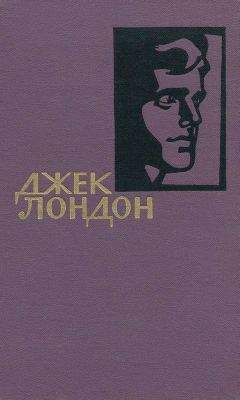Алена Никитична постелила ковер, усадила гостью. Поставила перед ней угощение – наливок и вин, каких Глухариха не пробовала и в доме Корнилы, персидских сластей, заморских сушеных ягод, пастил, медовых варений.
Глухариха вздохнула.
– Живешь, как птаха, невольна душа: наливки медовы, сахары грецкие и персицкие, узорочья сколько хошь, а все же не казачке жить взаперти!
Алена от неожиданности смолчала. До этой минуты ей в голову не приходило, что другие казачки считают несчастным ее житье. Сама она чувствовала себя счастливой с того мгновенья, когда ее Стенька внезапно откликнулся ей под окном.
– Муж твой неправедное с тобою творит, – продолжала Глухариха. – Их дело мужское – казачьи раздоры, а нашу сестру не обидь! Пошто такой-то пригожей казачке страдать! Когда ж и рядиться, убором хвастать!.. К старости расползешься, как тесто, рожа морщей пойдет, брюхо вперед полезет, а у тебя и наряды зря в сундуках сопрели!
– Сама никуда не хочу! Никого мне не надо! – горячо сказала Алена.
– Сахарный у тебя казак! – усмехнулась старуха. – А слеза на глазах пошто?
Алена поспешно смахнула слезы.
– Чу-ую: сызнова затевает! – догадалась старуха. – Да ты прежде времени не горюй! – утешила она Алену. – Сборы – долгое дело: всех обуть, одеть, всем пищали да сабли... Не казаки ведь приходят, все мужики, их так-то в поход не возьмешь! Покуда всего на них напасешься – и время, глядишь, пройдет, нарадуешься еще на своего атамана... Сколь у вас ныне людей в городке?
– День и ночь скопом лезут со всех сторон! Кто же их ведает, сколько. Да много, чай, стало... Что ни день, что ни два дни, глядишь – тут и новая сотня! – простодушно сказала Алена.
– Вот я тебе и говорю: столь народу в три дня не сготовишь к походу! – продолжала старуха.
– Не нынче, так завтра! – с горечью возразила Алена. – Вот так и живу, будто смерть на пороге!
– И что ты, казачка! Какая же смерть! И матки и бабки так жили: казак-то придет да снова уйдет, а ты все в станице! Али, может, не любит тебя?! Ворожила? – соболезнующе спросила старуха.
– Страшусь ворожить, – шепнула Алена. – Да что ворожба, кума, что ворожба?! За конями к ногайцам послал намедни, еще целу тысячу лошадей указал покупать – не впрок их солить, не пашню пахать на них, – стало, в ратный поход!..
– Может, зазноба где у него? – подсказала старуха.
– Зазноба? – растерянно переспросила Алена. – Нет, не мыслю того. К ратным делам у него охота, они его и сбивают...
– А на что же тебе, кума, женская сила! – воскликнула гостья. – Ты его сговори помириться с Черкасском. Твой небось ведь Корнея страшится, а тот его опасается... Мужикам-то что! Мужики по Стенькины денежки лезут, чуют богатство! А как станет мошна пуста, что тогда? Кому будет надобен твой атаман?! Надо ему во старшине себя утвердить! Пришел бы ныне в Черкасск, подарил бы Корнея перстнем, сабелькой доброй, как водится в атаманах, коня бы привел в поклон крестну батьке, – не лютый зверь, и сам Корней рад будет миру! И город строить не надо, и денежки оставались бы целы! Рядом с Корнилой отгрохали бы не дом, а хоромы! От доброй-то жизни и твой не захотел бы воевать, сидел бы в Черкасске, да и ты бы, на завидки казачкам, рядилась. Корнилиха локти бы грызла от злости!
Старуха внезапно умолкла, испуганно озираясь: голос Степана послышался рядом, за грудой каких-то бревен...
– Осерчает – увидит! Не любит меня твой казак. Схорони-ка! – заметалась старуха.
– Сиди, кума. Али ты не казачка? – успокоила Алена.
– Страшусь твоего-то! По голосу чую – гневен идет. Под сердитую руку не пасть ему...
Алена Никитична не успела и слова молвить, как тучная Глухариха проворно исчезла в огромной пустой бочке, поваленной среди других возле атаманской землянки...
Степан подошел с Наумовым. Только что он проверял на острове запасы разных товаров и теперь как раз говорил о том, о чем и приехала разведать атаманская подсыльщица и что было важнее всего для Черкасска:
– Огурцов соленых да рыбы и в три года не сожрать, а пороху и всего-то две бочки: в одной пусто, в другой нет ничего! Сбесились, что ли, мои есаулы премудрые? Мирно житьишко себе нашли: было бы жрать, мол, а пороху бог подаст, что ли?! – раздраженно говорил Степан.
– Не продают его, батька, страшатся! – сказал Наумов. – По рекам-то заставы. Никто попадать в таком деле не хочет! У воронежска воеводы толика лишнего есть, так он сговорился продать острогожскому полковнику Ивану Дзиньковскому – и то лишь тогда, как установится санный путь, в рыбных бочках наместо соленой рыбы, а Дзиньковский к нам повезет в винных бочках, как будто вино.
– А черкасские что, станут ждать, пока твои винные бочки приедут?! Корнила нагрянет, а нам и по разу нечем из пушек пальнуть!.. Кабы знал крестный батька, не долго бы мешкал ко крестнику в гости с чугунными пирожками!..
– Фрол Минаевич, батька, на что уж пролаза, и то не припас! – воскликнул Наумов. – Ну где же, где взять?!
– Твое дело! – прервал Степан. – Где надо, крякни да денежкой брякни – купцы чего хоть привезут. Самого Корнилу вот в экую бочку посадят да привезут в Кагальник!
– Где там купцы! – безнадежно сказал Наумов. – Последние, батька, бегут купцы. Велел я к тебе двоих привести, нынче от нас хотели бежать. Вот их ведут. Рассуди, что с ними вершить...
Двое казаков подвели к атаманской землянке связанных купцов. С месяц назад эти купцы шли с верховьев для обычного осеннего торга в Черкасск, никак не ожидая, что их в пути может кто-нибудь перехватить. На Дону никогда не бывало разбоев. Каков бы ни был дерзок и смел разбойник, он никогда не осмелился бы напасть на купцов, спускающихся в Черкасск, и тем нарушить гостеприимство казацкого Дона, опасаясь навлечь на себя гнев и расправу донского казачества...
На этот раз в Воронеже предупреждали их, что на Дону завелись ватажки голытьбы, от которой стало не так спокойно, как прежде, но купцы никого не послушали...
И вдруг уже на низовьях, когда пути оставалось всего ничего, с прежде пустынного широкого острова при их подходе грянула пушка и закричали: «Спускай паруса, суши весла!» Купеческие суденца остановились. По десятку челнов подошло к каждому из них. Войдя на суда, казаки осмотрели товары, расснастили с судов паруса, отняли весла, сгрузив их в свои челны, и, зачалив струги к челнам, отвели их на остров. Наумов велел купцам стоять и вести на острове торг. Устрашенные грозным видом напавших людей, посчитавшие сначала их за грабителей, купцы были рады отделаться торгом и быстро раскинули лавки прямо на самих суденцах. Но торг не пошел. Никто не покупал их товаров, и купцы сговорились бежать ночью, подняв якоря, обрубив причалы и отдавшись воле течения, которое неминуемо их принесло бы к Черкасску. Однако их судовые ярыжные за эту неделю успели сойтись и сдружиться со всей островной голытьбой. Узнав о купеческой хитрости, гребцы тотчас же выдали своих хозяев Наумову. Кулак есаула был крепок, тяжел и жесток. Но больше всего страшились купцы ответа перед самим атаманом. Оба купца по дороге прощались с жизнью и тихонько творили молитву.
– Мыслю я так, Степан Тимофеич: товары отнять, а самих в куль да в воду, – сказал Наумов.
– Чего побежали? – сурово спросил купцов Разин.
– Неделю стою – на алтын не продал! Пошарпали много – тащат да тащат, а денег не платят! – воскликнул, осмелившись, один из купцов.
– Торговли нет, а грабеж повсядни! – подтвердил и второй.
– Товар у тебя каков? – спросил атаман.
– Юфть, сапоги, овчина, валенки тоже.
– А у меня холсты да сукна. В Черкасске бы в три дни продал. За тем поспешал к осеннему торгу: к зиме все раскупят! Не зиму стоять у вас. Дон уж скоро замерзнет!
– Что же торга нет, есаул? Раздетых да босых у нас, я гляжу, к зиме вволю! – обратился Разин к Наумову с той же суровостью.
– У кого деньги есть, Тимофеич, тот уж давно обулся, оделся, а у голых да босых, знать, денег нету! – попросту объяснил Наумов.
– Вели развязать купцов, – приказал Степан.
Казаки обрезали веревки на руках пленников.
– Аленушка, дай-ка ларец «рыбья зуба», – повернувшись к жене, приказал Разин.
Алена спустилась в землянку и вынесла оттуда тяжелый драгоценный ларец, привезенный Разиным из морского похода. Степан откинул крышку ларца. При блеске осеннего яркого солнца оттуда брызнули разноцветные искры, – так засверкали грани драгоценных камней, смарагдов, рубинов, алмазов.
– Вот, купец, – сказал Разин, захватив щепоть дорогого узорочья. Отборный бурмитский жемчуг, как крупный белый горох, отливающий матовой радугой, повис на богатых нитях. – Возьми-ка за свой товар. Хватит тебе за твои сапоги да овчины? Не обидно ли будет? – насмешливо спросил Разин.
Ошалелый от счастья и удачи, купец не знал, верить ли щедрости атамана.
– А вот и тебе за твое добро, – сказал Разин второму, щедрой горстью кинув расплату.
– Постой, Тимофеич! – схватив его за руку, воскликнул Наумов.