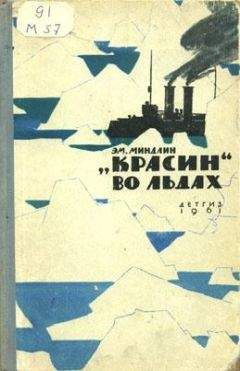Похвалил Стадухина.
Груб, конечно, Мишка, зато рука твердая. Когда к иноземцам идешь, рука должна быть такой твердой, как у Стадухина. Этот (все понимали – Дежнев) вроде и ухватист, а твердости не хватает. Он новую реку ухватил за хвост, как медведя, тянет из берлоги, а медведь не вытягивается. Ну дал бы пинка, всхрапывал от удовольствия Двинянин, ну, бросил бы, пошел искать зверя по силам, а этот сел и сидит бессмысленно. Нет, не тверда у него рука.
– Зато голова умная, – не выдерживал Лоскут. Хотел сидеть молча. Но не выдерживал. – Ты, Юшко, пришел на одно лето, только тебя и видели. А Семейка, он – казенный прикащик, он власть государя представляет. Ну, ты погуляешь и уйдешь. А чего хорошего, если дикующие, проводив тебя, возбужденно бросятся на Семейку? Только казне убыток.
– Я где бываю, все беру дочиста.
– А можно долго брать, с пользой.
На Лоскута даже Васька Бугор посмотрел волком.
– Двинянин волю принес! А ты, Гришка, беглый. Зачем перечить вольным людям? Думаешь, в долгу у тебя, так ты…
Не договаривал, но Гришка все понимал.
– Где печатки дорогие? – спрашивал. – Неужто потерял?
– Были, были печатки, – легко соглашался Двинянин, сжимая пальцы в кулак. – Только, уходя, купил просторный двор вдове Коноваловой. Ее мужа шоромбойские мужики на Яне зарезали.
– Врешь! В кабаках оставил.
Впрочем, возражал Гришка без уверенности. Знал, что Юшка запросто мог оставить дорогие печатки в кабаках, но так же легко мог купить просторный двор некоей вдове. Наглотался крепкого винца, запела душа, а тут – молодая! Шоромбойские мужики у нее мужа зарезали!
– Ишь, ноздри вывернул, – непонятно, но весело смеялся Двинянин. – К Камню зачем ходил?
– Данилу Филиппова провожал.
– Ой ли?
Гришка настораживался.
А вдруг Двинянин в пути встретил Данилу? Данила вполне мог сказать, где расстался с Лоскутом.
И Двинянин настораживался:
– Чего молчишь?
– Зачем отвечать? Не тебе служу.
– А кому?
– Прикащику Погычи.
– Ой, прикащику! – презрительно фыркал Двинянин. – Он в прикащиках сам себя утвердил. Ты мне служи! У меня воля. У меня б тебя звали – Грегорий. А так ты кто? Вор беглый.
Фрол приподнимался в углу.
– Сиди, Фрол! – весело останавливал Двинянин зверовидного. – В том нет худа, что Лоскут из беглых. У нас многие бегали. И ты, Фрол, бегал. И ты, Бугор. И ты, Заварза. – Обводил казаков вспыхнувшими глазами: – Не побегаешь, не утвердишься. Правду я говорю? Правда, новый воевода якуцкий строг. Приказал всех воров в Якуцк возвращать в колодках.
Этим высказав свое отношение, терял интерес к Лоскуту.
– Скоро пойдем на коргу! На одном месте только пень растет. Этот совсем нелюбопытен, пень пнем, а настоящему казаку на одном месте скушно. Я каждому плачу от души, всех домой возвращаю. Я же знаю каждого, – доверительно понижал голос, и казаки дружно поддавались к Двинянину, даже Гришка. – У одного дома ласковая баба осталась, у другого – малые дочки, у третьего хоть коза, да своя. А этот все под себя гребет.
В круглых глазах Двинянина вспыхивали адские искры:
– Я книжки читал, куншт корабельный знаю. Сердцем чувствую, как надо правильно жить, стоять за служилого человека. Далеко людей увожу, но со мной возвращаются отовсюду. Я так считаю, что если человек со мной пошел, так со мной и должен вернуться. Ни одну православную душу не ставлю в пустынном месте. А если кто умрет при мне, то христианскою смертью, как Бог велел.
Замолчал.
Всем и так понятно: камень в Семейку.
Ушли в Заносье с Дежневым люди Федота Алексеева, Афанасия Андреева, Бессона Астафьева, а кто на Погычу вышел?
Вздохнули.
Сразу слышно стало, как Анисим Костромин – плотный, тихий, черные волосы стрижены скобкой – при колеблющемся свете ширкал по кости острым ножичком, шлифовал обломок рыбьего зуба. У него всегда что-нибудь интересное получалось. За что ни возьмется Анисим, обязательно что-нибудь получится. Сейчас, например, птичка. Маленькая, легкая, крылышки распустила. Кажется, что голосистая. Не в пример другим, Анисим ни крошки не терял рыбьего зуба. Другой бы выбросил малый обломок, что в нем проку? – а Анисим не выбрасывал. Вот и теперь получилась птичка, весу в ней никакого нет, а на ярманге в Нижнем потянет на хорошую цену.
Платят ведь не только за вес.
Платят и за искусную работу.
Горьку ягоду невесело клевал…
Оставив душную избу, Гришка постоял у крылечка.
Мороз, а все равно весна. Днем на берегу мокро. Солнце взойдет, тронется лед. С гулом, с треском страшно полезет на высокие берега, обдерет каменные обрывы. По доброму бы ставить оленный аргиш да с набранным зубом, с мяхкой рухлядью, со всем, что скопилось в амбарах, бежать на Камень, а там на Анюй-реку.
Но Семейка, правда, сидит, как пень.
Странно, покачал головой Лоскут. Вот Стадухин всяко поносил Семейку, теперь Юшко поносит, а Дежнев терпит. Евсейка Павлов отшатнулся от него с шумом и с неприязнью, а он терпит. Расселил всех новоприбылых по избам, выделил места для припасу, указал на два кочика готовых. Вот, дескать, Юшко, стоят на берегу два готовых кочика на деревянных городках. У тебя людей много. Весной просмолите лиственничной смолой. Как сойдет лед, вместе поплывем рыбий зуб брать.
Гришка не понимал.
Ну, как так? Зачем дал кочики Двинянину? Почему не обрывает поносные речи? Известно, в характере Дежнева – все решать миром, но люди устали. У них запас мал, немногая часть порохового зелья от сырости стулом села. Вместо мыла варят сайпу – ворвань с золой.
Вздрогнул.
Легок на помине.
Дежнев, без шапки, с русой, как бы прилипшей ко лбу светлой прядью, с лицом желтоватым, морщинистым, как лахтачья кожа, со впалыми щеками, вынырнул из тьмы неслышно. Сразу выдвинулся из тьмы коричневый олешек, скромно уткнул рыло в снег, смотрел снизу вверх: может, помочиться вышли люди?
– Что слышал?
Гришка усмехнулся:
– Двинянина.
– Невежлив?
– Считает тебя самочинным прикащиком. Всяко поносит. А ты зачем кочики ему дал?
– А как он зуб рыбий доставит с корги?
– Твоя корга. Лучший зуб ты должен взять.
– Корга моя, – подтвердил Дежнев. – Но удержать Юшку у меня сил нет. Не забывай, что многие люди польстились на его слова. Сам колеблешься. Юшка многих смутил прельстительными словами.
Вздохнул:
– Жаль, Энканчан замерз.
– Да чего дался тебе незамиренный князец? Может, это хорошо, что он умер. Можно не опасаться. И с Юшкой ты зря. Он от добра наглеет. Весь лучший зуб заберет.
– Все равно в казну.
– Да он же пишет изветы на тебя! Будто не знаешь?
– Я оправдаюсь. Специальных людей пошлю в Якуцк.
– Кого?
– Да хоть тебя.
– Ты что? – по-настоящему испугался Лоскут. – Мне нельзя. На меня в Якуцке крикнуто государево слово.
– Понадобится, пойдешь.
– Я тебе на Погыче нужен.
Помолчали.
– Семейка.
– Ну?
– Что о будущем думаешь?
– Всякое думаю.
– Семейка!
– Ну?
– А если Юшка отберет аманата? Если посадит одноглазого Чекчоя в свою казенку и родимцы ясак понесут Юшке? Жалко будет?
– Жалко, – согласился Дежнев.
Тявкнула вдалеке лиса, а может, лед на реке крошился.
Ночью звук таинствен, не всегда угадаешь, откуда пал? Согреваясь, Дежнев тяжело топтался на месте, хлопал варегами по бокам:
– Я вижу, Лоскут, ты ко всему присматриваешься. Но ты об увиденном не просто про себя думай, ты вслух говори. Я не аптах, не волшебник, не умею чужие мысли ловить, мне сказанные слова важны.
– О чем ты?
– О будущем.
– Это как?
– А то не знаешь? Думал ведь, – упрекнул прикащик. – Ты так думал, что уйдет Юшка, нам не усидеть на реке. Да? Всех зарежут дикующие, всех спицами переколют. А если уходя, Юшка еще и ударит по стойбищам, как Стадухин, то вообще тогда. Придут обиженные анаулы, явятся ходынцы, спустятся с гор сердитые коряки. Им ведь все одно, кто их обижает – Стадухин, Юшко или Семейка.
Гришка подозрительно глянул на Дежнева.
Ужасные вещи говорил Семейка, но говорил рассудительно, не впадая в горячность.
– Так что, Гришка, не мудрствуй. Просто служи. Неси дозоры, поглядывай за аманатом. Не сумел сохранить Кивающего, хоть Чекчоя сохрани. Положи пищаль перед собой, чтобы все видели, что ты к смерти готов. Ни Юшка, ни дикующие не должны забрать князца. Понимаешь?
Глава VI. На море и на суше
Ночь.
Глухо.
Дежнев никак не мог уснуть.
Далек Нижний острожек. Якуцк еще дальше.
А здесь сендуха. Летом – болотная, мокрая, укрыта мхом. Зимой – лед рвет течением, ходит над рекой эхо. Обидно. Прав Лоскут. Вот Юшко пришел и поносит всяко, считает кopгу своей. А где, в каком сне мог увидеть? Многие искали богатое место. И с моря, и с суши искали, но первым пришел я. Мало ли, что начинал Мишка Стадухин. Это он так считает, что везде первый. Было, стучал кулаком в грудь: «Помните, заворовал в Якуцком острожке сын боярский Парфен Федоров? Тот негодный Парфен всех заморил голодом, но разве Семейка первым крикнул Парфену: „Кажи анбары!“? Да нет! Я крикнул! А жиган Анкудинов поддержал, ндрав такой. А когда сын боярский появился на крыльце с заряженной пищалью и грозно крикнул: „Ну, стрелять буду в первого, кто пойдет к анбарам!“ – разве Семейка первым смело кинулся на Парфена?»