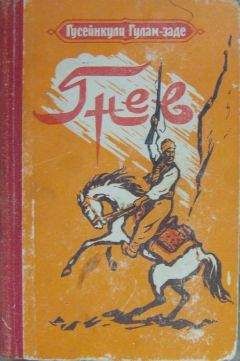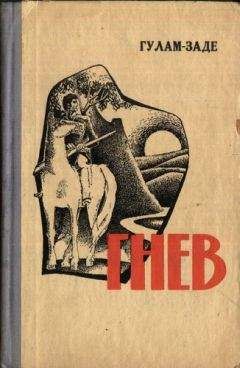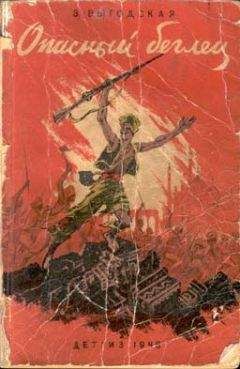Смотрю и вижу: ничего тут не изменилось, все осталось в прежнем виде. В саду Исмаила Хаджи двигаются женщины, белят известкой стволы яблонь и вишен. Другие, о голыми ногами, полоскают белье на Киштанке. Площадь, как всегда, занята ребятней. Интересно, узнают они меня?
Торопливо спускаюсь в село, бегу на площадь. Увидев меня, мальчишки бросают альчики, смотрят в мою сторону и будто понять не могут: «Откуда тут появилось это почтовое… государственное чучело с гербом и с сумкой за плечами?» Среди забияк выделяется Мухтар. Как он вырос, разбойник! Ростом стал с меня, а ведь я на целую голову выше своей мамы. Он подходит ко мне совсем близко, однако не первым узнает меня или притворяется, что путает с кем-то другим. Другие ребята сразу узнали. Окружили, щупают форму, примеряют мою фуражку.
— Гусо — почтальон!
— Поздравляем, Гусо-джан!
— Привет вам, друзья мои! Я очень рад встрече. Здравствуй, Мухтар! Ты почему невеселый? — Не пойму Мухтара: не-то завидует, не то вспомнил старую ссору. Перед самым отъездом я поколотил его. За что — уже и не помню.
Мухтар сунул руки в карманы, обвел взглядом ребят, усмехнулся. Припевать начинает:
Эй ты, парень-почтальон!
Слишком горд ты, почтальон,
Ты богат — подумать можно,
а всего лишь — почтальон!
Взрыв смеха, но в смехе не чувствуется злорадства. Это добрый дружеский смех. Я говорю:
— С каких это пор, Мухтар, у тебя проявились способности сочинять бабьи песенки? Не ходишь ли на бендарик, — девичник, не занимаешься ли там рукоделием?
Теперь уже сорванцы хохочут над своим предводителем, Мухтаром. Он нисколько не обижается. У Мухтара хватит ума, чтобы понять шутку.
Завязывается другой искрометный разговор, и смех иной — радостный, связанный с воспоминаниями и разными историями. С болью и волнением я смотрю на сверстников своих, давних друзей. Что в них изменилось? Они так же, как и два года назад, оборваны и босы, так же веселы и вертлявы, и замашки у них чисто деревенские. Кажется, в чем-то я превзошел их. Культуры набрался что ли? Точно не могу определить, но чувствую разницу между нами. Вот что значит город! Надо спешить. Почтальона, как и волка, ноги кормят.
— Ну ладно, друзья, до свидания. Тороплюсь. Увидимся. Мне до захода солнца в Миянабад попасть надо.
Мухтар и его ватага — человек пять-шесть— провожают меня за село и долго потом машут вслед, что-то кричат.
Миянабад— рядом. Всего фарсах пути. Но раньше я никогда не бывал в этом городе. По правде сказать: хорошо, что не бывал. Ничего от этого не потерял. Те же глинобитные мазанки в два этажа: внизу скот, вверху — люди. Плоские крыши, на которых растут трава и ярко-красные маки. Узкие грязные улички — двум телегам не разъехаться. Только в центре города глаз радует видная постройка, похожая на дворец. Это арка, резиденция городского головы. Она обнесена высоким забором, видна наполовину.
Иду по городским улицам, ищу почтовое отделение. Найти его не так уж трудно. Все казенные учреждения находятся в центре, а почта в первую очередь. Конторка связи отыскивает меня сама… Я чуть не прошел мимо ее, но с крыльца окликнули:
— Ты постчи? Не к нам ли тебя направили?
— Да, я почтальон. А вы хозяин почты? — отзываюсь я.
— Заходи, постчи! — машет рукой чиновник.
Сдаю почту, спрашиваю, как мне отыскать дом покойного медника Файзулло. Когда я отправлялся в путь, то отец посоветовал мне остановиться в этом доме. Сам он, когда наведывался в Миянабад за покупками, всегда останавливался там. Чиновник почты, оказывается, хорошо знал этого доброго ремесленника, охотно показал, как найти его двор.
Шагаю по пыльной немощеной уличке. Слева и справа серые плоскокрышие кибитки без окон, отовсюду веет нищетой и убожеством. Ремесленники ютятся в основном на окраинах. Там же оказался дом покойного медника Файзулло. Меня встречает курдянка в черной шали. Ее зовут Фарида-ханым. Неужели та, о которой говорил мне отец? Я называю ее этим именем, и она с любопытством начинает разглядывать меня, пытаясь вспомнить: кто я такой, где она могла меня видеть раньше? Рассказываю, кто и откуда я, называю имя отца. О, я попал в цель! Начинаются расспросы, как живет почтенный Гулам? Жива и здорова ли Ширин-ханым? Потом хозяйка вводит меня во двор, приглашает в комнату. У меня фуражка с гербом, как не уважать сына Гулама!
По обстановке вижу, что живет здесь небогатая, но очень аккуратная, скромная семья курдов: видны порядок и свежесть. Чистые кошмы, одеяла на сундуке и подушки сложены заботливой рукой, в углу этажерка с книгами. Последнее обстоятельство меня особенно подкупило, потому что редко в каком доме у курдов найдешь книги. С интересом спрашиваю, кто читает эти книги. Фарида-ханым улыбается.
— Сын у меня, Ахмед, твоего возраста, дорогой Гусо. Днем работает на кирпичном заводе, а вечерами учится.
Любит он сидеть над книгами. В отца пошел. Тот с тазами да казанами возился, мастерил, а с книжками не расставался. Сейчас Ахмед пошел к учителю.
Фарида-ханым угощает чечевичным супом и чаем. Ем и думаю: буду всегда ночевать здесь, а чтобы не чувствовать себя слишком стесненно, дам тете Фариде несколько кран. Как же это сделать? Не возьмет, да еще обидится. Пока я размышляю, тетушка Фарида рассказывает о своем муже: каким он был добрым и уважаемым человеком, как внезапно свалила его страшная болезнь. Тетя зачем-то выходит из комнаты и я беру с этажерки первую попавшуюся книгу. Начинаю листать. Читать немного умею, но каждый слог дается с трудом. Больше рассматриваю картинки.
В гостях я задержался, а время все шло. Ахмед вернулся вечером. Он был чуть ниже меня, худой, с мелкими чертами лица и кудрявыми волосами. По виду похож на городского интеллигентного юношу. Даже полосатый хала г и сыромятные чарыки не скрадывали изящества, каким так и веяло от Ахмеда. Я сразу отметил про себя, что этот парень должно быть вежлив и красноречив. Действительно, таким и оказался Ахмед. Увидев в моих руках книгу, он мягко улыбнулся, начал расспрашивать про то, что я читаю, учусь ли где-нибудь? Он так увлекся, что забыл спросить, как меня зовут и откуда я взялся в его доме? Фарида-ханым напомнила:
— О аллах! Да ты, сынок, познакомься с Гусейнкули. Это сын Гулама, который всегда у нас останавливался. Знакомься, а потом уж говори о своих книгах.
Ахмед засмеялся, извинился, и мы с удовольствием пожали друг другу руки.
— Ты учишься, Ахмед? — спросил я.
— Учился… Когда умер отец, я поступил работать. Теперь вот бегаю по заданию учителя Арефа, записываю людей в школу взрослых… Ну, не школа, а кружок. Впрочем, это не столь важно. Главное — наш учитель очень умный человек. А ты хотел бы учиться, Гусейнкули?
— Зачем про это спрашивать? Конечно, хочу, но ведь я — почтальон, как лошадь бегаю. Одна нога там, другая здесь. В понедельник — я в Боджнурде, во вторник и среду— в дороге, а в четверг — в Миянабаде. Точность у меня, как у осла: ведь тот по часам орет!..
Оба смеемся. Он говорит:
— Но и занятия точно проводятся, три раза в неделю.
На двух ты сможешь бывать, а третье — я с тобой сам проведу.
— Ладно, посмотрим, — неопределенно отвечаю я. Мне не хочется опять часами стоять на коленях и слушать проповеди ахунда. Пропади он пропадом! Блеяние козла и то лучше слушать.
Утром, перед тем как забрать свою почту, мы с Ахмедом бродим по миянабадским улицам. Сын лудильщика знакомит меня с городом. Миянабад почему-то не нравится, и я без всякого интереса рассматриваю лавки, сапожные мастерские, ресторан, дворы, оплетенные виноградом. Возле арка мы рукопожатием распрощались с Ахмедом. Он пошел в сторону кирпичного завода, а я — на почту.
В первую же получку я купил сестренкам яркого ситца на платья и букет нежных цветов для Парвин. Остальные деньги отдал маме. Важно пришел к тёте Хотитдже. Цветы держу за спиной. Заигрываю.
— Тётя-джан, здравствуйте!
— Что ты там прячешь, Гусо?
— Разве заметно! Это цветы, тётечка… Букетик лучший на свете хочу подарить Парвин-ханым. Как вы думаете, она не обидится?
— Ого, какой ты, Гусо! Настоящий кавалер! Молодец, Гусо-джан, джигит!.. Парвин каждый день о тебе спрашивает. Садись, я схожу за ней… Пригладь волосы.
Тетя вышла. У меня тревожно стучало сердце. Что же мне сказать ханым? Как подать букет? С каких слов начать? Притвориться зевом — боджнурдским нищим? Да, кажется, это самое подходящее, что можно придумать.
Аллах, спаси… Входит Парвин. На лице играет улыбка. Я вытягиваюсь, как солдат перед командиром, подаю ей букет:
— Бану… Парвин… Поймите и простите… Нищий может подарить только зеленый листик… Примите, бану!
Парвин смутилась, щеки ее зарделись румянцем. Ей понравился мой изысканный тон и жест. Вот тебе и нищий!.. Мне тоже почудилось, что я в эти минуты важнее хана. Но едва вышла тетя, и вся моя храбрость улетучилась. Мы остались вдвоем. Спасай, аллах!.. Маленькая комната с глинобитными стенками в моих глазах вдруг превратилась в роскошную, зеркальную комнату. И всюду, везде отражалось лучезарное, улыбающееся лицо Парвин. Я окончательно опешил.