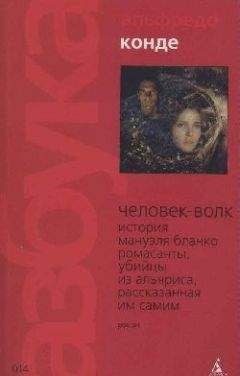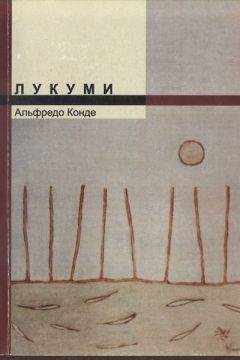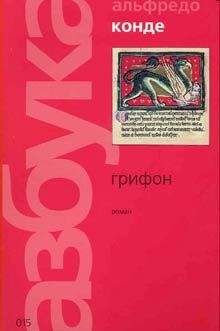— Ну как спалось, Тонин?
— Скорее как грезилось! — отвечает он довольным голосом.
— Позавтракаешь или предпочитаешь причаститься на службе?
— Лучше позавтракать, потом покаюсь сразу во всех грехах.
Сегодня праздничный день. Как и в прежние годы, они пойдут на службу пешком, в церковь в Санталье, той же дорогой, по которой он когда-то ходил в школу, той же, по которой его отец ходил в муниципалитет, той же самой, по которой он ехал совсем недавно, во сне, не прошло еще и часа, сидя на коне, изобретенном его дядей.
— Нет прощения тому, кто живет без греха, Тонин.
— Знаешь, мне снился твой отец со своим конем.
Антонио вновь одевается и тут только вспоминает, что не привез другой одежды, что привез только картину, но ему кажется, что его кафтан цвета синего кобальта так хорош и даже роскошен, что не ударит в грязь лицом перед соседями. Он облачается в него и входит в кухню Шосефа, чтобы немного перекусить. Слуга, что еще недавно спал на скамье, уже там и сообщает ему, что все на своих постах; но Антонио Ибаньес уже более спокоен, он чувствует себя в безопасности среди своих земляков.
— Мы идем на службу в церковь; если хотите, можете пойти с нами, а если нет, можете остаться здесь.
Они завершают свой легкий завтрак и выходят на дорогу. Наш герой уже вторично за последние несколько часов проходит ее: первый раз это было во сне. Ощущения, сохранившиеся у него, столь же достоверны и реальны, как и теперешние, даже можно сказать — более реальны, как бывают реальны и достоверны ощущения мужчин, что в своих снах овладевают самыми прекрасными женщинами, содрогаясь от наслаждения, и пробуждение всегда оказывается болезненным; настолько болезненным, что о пережитых во сне ощущениях даже можно сказать, что они превосходят те, что мы считаем реальными. Так и сейчас. Свет поздней весны заполоняет собой все пространство лесов и полей, каштановых рощ и густых дубрав. День сверкает, и он реален, но не менее реален мелкий дождик сегодняшней ночи, впитавшаяся в одежду сырость, суровый, чеканный шаг коня. Антонио Ибаньес ощущает себя столь же достоверным и реальным, как достоверен и реален тот, что остался дома, запечатленный на портрете.
Когда они подходят к капитулу, уже множество народу ждет его, самого могущественного среди них; они ждут сына писаря, который сегодня, как говорят, повержен и опозорен. Вначале наступает долгая тишина, такая глубокая, что, если бы шел дождь, можно было бы услышать, как падают капли с навеса крыши; но сегодня дождя нет. Деревянные башмаки стучат по плитам мостовой, создавая иную музыку, в которой есть что-то скользящее, ползущее, и это ощущение усиливает рокот голосов, когда дон Антонио Раймундо в сопровождении Шосефа Ломбардеро останавливается в центре капитула в ожидании, пока земляки подойдут поздороваться с ним. Он сам тоже приветствовал их, проходя среди собравшихся, бросая взгляды то в ту, то в другую сторону, протягивая руку одному, приветственно помахивая другому и даже расточая такие улыбки, которых в Саргаделосе никто никогда у него не видел.
И вот постепенно некоторые стали подходить к Ибаньесу, чтобы выказать ему свою поддержку. Но есть и другие, что этого не делают; они отходят в сторону, они так и останутся в стороне, пока не узнают, что делали и как вели себя их родственники, нанятые Ибаньесом для работы на литейном производстве, во время мятежа, о котором им уже известно, но без подробностей. Мало-помалу все приобретает обычный для праздничного утра вид. Антонио Ибаньес постепенно узнает лица и узнает себя в этих лицах и во взглядах большинства из этих людей, что так похожи на его собственный взгляд, суровый, внушающий трепет. Они все похожи друг на друга и будто образуют стаю; ее можно увидеть издалека, но разглядеть ее достоинства способен лишь тот, кто привык с ними общаться. Антонио вглядывается в глаза своих соплеменников и ощущает свое сходство с ними. И тогда он думает, что это открытие должно успокоить его, ибо благодаря ему можно оставаться в мире с самим собой.
6
Голоса в капитуле постепенно начинают звучать громче, и все мало-помалу входит в привычный ритм, нарушенный явлением просвещенного промышленника. Все входит в свое обычное русло, после того как признан и вновь принят в стаю одинокий волк; даже разговоры такие же, как раньше, и Антонио Раймундо внимательно вслушивается в них, побуждаемый тем же любопытством, какое он испытывал ребенком, когда приходил сюда за руку с отцом.
— Так вот, он разом привез сто девяносто два фунта; да еще в другой раз двести один, за ними в кузницу в Суэйро ездил мой дядя; да сорок четыре фунта толстых листов железа из литейной мастерской в Монтеалегре, за ними я сам ездил четвертого февраля; да еще четыре фунта железа и бруса, за ними он ездил…
Антонио мог бы поклясться, что уже выслушивал такие же точно пространные объяснения на этом же самом месте от своего дяди Антонио Мануэля, где-то году в семьдесят третьем, когда тот мастерил в кузнице дома в Виларпескосо часы для Мондоньедо. Он узнает говорящего и незаметно приветствует его, лишь подмигнув, на тот случай если уже поздоровался с ним раньше и не желая привлекать излишнее внимание повторным приветствием. По чертам лица этот человек скорее всего внук Шоана Фернандеса, Старика, о котором говорят, что был он высокий и худой и слегка нескладный, что прожил он девяносто один год и оставил после себя сына, который был на него похож, прожил столько же и считается создателем солнечных часов из графита во времена, когда приором был дон Франсиско Бернардо Пасарин-и-Киндос, в 1742 году, за семь лет до рождения нашего героя, о чем свидетельствует надпись под часовым кругом, однажды в полдень установленным на внешней стене фасада приората Баос.
Часы, о которых напомнил Шан Антонио (в этих местах все Шаны или Антонио, все Шосефы или Мануэли, и большинство — часовых дел мастера, а посему всех их легко перепутать, и между собой они перепутаны, просто неразбериха какая-то: все родственники, все одинаковые), так вот, эти часы вызывают у Ибаньеса воспоминание, которое в последнее время сильно занимает его. По той же самой дороге, по которой теперь они прибыли, оставив позади скалы Нониде, Антонио ходил в школу, где он, будучи совсем еще мальчишкой, давал уроки другим детям в тот год, когда его земляки не смогли найти на ярмарке в Луарке учителя, который бы их устроил, и поручили эту работу ему, восхищенные его исключительным умом. Ярмарка в Луарке в тот год была единственной, куда они могли добраться, поскольку святая Барбара повела себя тем летом самым неподобающим образом, хотя к ней и обращались, как обычно, с просьбами, поливая водой ее каменное изваяние, стоящее у прачечной над источником. Это была идея его матери, она постаралась, чтобы его наняли на работу, в надежде извлечь хоть какую-то выгоду из уроков, которые начиная с трех или четырех лет давал ребенку ее муж.
В доме, где он сегодня провел ночь, все еще оставались первые прочтенные им книги. Это были книги, на обучении по которым настояла его мать, поскольку они внушали ей полное доверие и отличались праведностью, и она поставила в качестве непременного условия, чтобы книги выбрала она сама, дабы не заражать ум отрока тем, что ей казалось манией величия, свойственной его родителю, а на самом деле было не чем иным, как волновавшим его чистую и добрую душу стремлением к прогрессу. Когда сие условие было поставлено, его отец, Себастьян, улыбнулся и принял его. Тогда Антониа, не вдаваясь в объяснения, попросила подробного отчета об этих книгах у своих двоюродных братьев Франсиско Антонио и Косме Мануэля, детей Хуана Антонио, еще одного часовщика, создателя светильников, часов, стульев и даже собственной кровати, типичного творения своей эпохи, инкрустированной кровати с изголовьем той же формы, что и оправа его часов: по бокам столбики и четыре украшенные цветами арки с двумя балюстрадами, а в середине виньетка с фамильным гербом и надписью, что и теперь гласит: Я ПРИНАДЛЕЖУ Д. ХУАНУ АН. ЛОМБАРДЕРО; этот еще один его дядя, еще один Шан Антонио, даже свое погребальное пристанище, свой собственный гроб, начал мастерить из металла, хотя ему так и не удалось закончить его. Просто не хватило на все времени, таким красивым и удобным собирался он его сделать, таким изысканным.
Так вот к этим двум родственникам и обратилась мать с просьбой помочь ей с книгами, как будто бы лично для себя, убежденная, что они посоветуют только праведную литературу, что и произошло в действительности. Дело в том, что Франсиско Антонио и Косме Мануэль посвятили себя религии. Они прошли обучение в Компостеле[17], а потом, в пятьдесят четвертом году, отправились получать докторскую степень в Овьедо, положив там начало плодотворной дружбе с падре Фейхоо; надо сказать, последний немало помог Франсиско Антонио если не в написании, то, уж несомненно, в редактировании трех книжечек, которые прошлой ночью просматривал Антонио Раймундо: первая называлась Logica Magna et Parva ad usum cis-terciensis ordinus scholarum[18] и была написана в 1748–1749 годах, затем — Secundo Philosophiae Pars[19], 1749 года, и Tercia Pars Cursus Philosophici[20], 1750 года, — судя по всему, это были весьма плодотворные годы. Антонио помнит и еще одну книгу, написанную уже Косме Мануэлем, под названием Comentaria in unwersam philan[21], 1750 года, но сейчас он не может вспомнить, где она; зато хорошо помнит, что все четыре книги были выпущены ин-кварто[22], а принадлежавшие перу Франсиско украшены виньетками, снабжены интереснейшими комментариями и заключены в переплет из овечьей кожи.