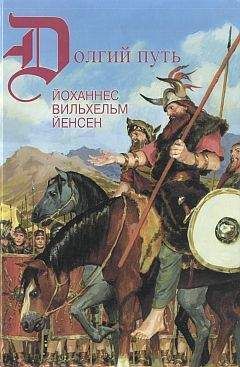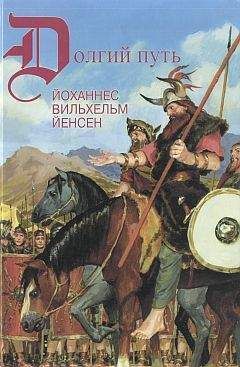И в этот час, когда Миккель Тёгерсен сидел в одиночестве на обочине дороги, сила жизни, заключенная в его существе, утратила свою опору: он повалился в канаву и застонал от страха. Но он был молод, его страсти не могли еще в самих себе находить поддержку, им нужен был предмет, на который они были бы направлены. И вот все его страдания обернулись ненавистью, ненавистью к тому, другому — Отто Иверсену. Как избавление пришла ему мысль убить Отто Иверсена. Он тотчас же успокоился и принялся мысленно мучить и убивать… Вот так, вот так заморгает Отто Иверсен при виде ножа, вот каким Миккель увидит его перед собой — раздавленного в лепешку своими несчастьями, вот так он будет сломлен медленной казнью.
Миккель Тёгерсен очнулся от своей мстительной мечты, заслышав издали шум приближающегося экипажа — в вечерней тишине до него донеслось поскрипывание колес. Вот они перевалили через вершину холма. Миккель услышал, как возница прищелкивает языком; тогда он встал и стремительно зашагал в город. В ту же ночь ему удалось сговориться со шкипером, который согласился перевезти его на Грено{14}. Ветер стих, судно неподвижно покачивалось на волнах в виду крутого {15}, а Миккель Тёгерсен спал в это время в трюме мертвым и, казалось, непробудным сном.
Солнце встало при полном безветрии. Шхуна лежала в дрейфе, и ее понемногу сносило к северу, сконский берег вставал из-за горизонта с юга в виде низкой тучи с рваным краем. Шкипер и два его матроса уселись за весла, но от их усилий было мало проку.
Измаявшийся нетерпением шкипер достал из трюма бочонок пива и пошел будить Миккеля. Едва протерев глаза, Миккель был ослеплен зрелищем неподвижных, как зеркало, вод. Расчистив на палубе место, они принялись за питье. Наголодавшийся и настрадавшийся Миккель захмелел сразу, еще не успев очухаться со сна. Он махал кружкой, одурев до беспамятства. В конце концов все умолкли, и один только Миккель плел что-то несуразное.
— Я давным-давно запродан, и ждет меня погибель, — вещал заплетающимся языком Миккель, брызгая слюной. — Бедная моя душенька сатане и тому не надобна! Ну и ладно! Еще будет на моей улице праздник! Я отказываюсь, когда сам чего не захочу, сказано — сделано, и иду своей дорогой, вот и вся недолга! Ура! Собирайтесь-ка на мой праздничек, все покойнички и увечные, все огнем спаленные и по башке треснутые. Эх-ма! Стол накрыт, рассаживайтесь, гости желанные, кто в чем пришел, не стесняйтесь! Хоть в саване — сюда, пожалуйста! И вы, у кого мясо со щек сходит и руки в песке! Сюда — утопленнички, на дыбе замученные! Я и сам того же поля ягода и скоро к вам гостевать приду. Пропадай, моя головушка, я больше ничей, я сам по себе. Какое мне дело, водится или не водится где-то птица страус, какое мне дело, что во Франции дурак сидит на троне. Ну, я пошел домой, у меня глаза слипаются. Прощайте, счастливо оставаться!
Судно застыло на солнечной глади, точно мертвое, кругом — ни звука, кроме плеска воды. Шкипер и матросы посмеялись от души, а Миккель еще долго пил, и то всхлипывал, то бахвалился, переходя с датского на латынь, пока наконец не повалился на палубу и опять не уснул.
В пору сенокоса Миккель Тёгерсен вернулся в родную долину возле Лимфьорда, где стоял его отчий дом.
Еще стояли светлые ночи, жара лишь немного спадала с наступлением сумерек, и тогда над рекой поднимался туман и окутывал пойменные луга. В лугах копнили сено, и молодежь из трех окрестных деревень оставалась там ночевать под открытым небом. Поздно вечером раздавался клич коурумцев: «Спать пора!» Его подхватывали и передавали дальше от стога к стогу. Немного погодя из окрестностей Гробёлле, где тоже метали стога, слышался замирающий отзыв грудного девичьего голоса: «Спать пора!» Пробегали, дробясь, отголоски по вершинам холмов, и казалось, что это косноязычные тролли передразнивают человеческую речь. И наконец, из бесконечного далека, тоненькими осколками прилетало еле слышное: «пати оо-аа!» Это из глубины долины откликались жители Торрильда.
«Га, га!» — неслось от крутых берегов. Густел туман над рекой. Все вокруг засыпало, объятое божественным покоем, и мерцающий небесный покров окутывал погруженную в светлую тишину землю.
Долина эта на полмили протянулась от фьорда с запада на восток. В ее восточной оконечности находилась усадьба Мохольм, в которой хозяйничала вдова Ивера Оттесена, она же владела и долиной со всеми ее деревнями.
Невдалеке от фьорда стоял дом кузнеца Тёгера с принадлежащей ему водяной мельничкой. Тёгер прожил тут тридцать с лишним лет. Кроме Миккеля, который вот уже восемь лет учился у чернокнижников, у него был еще один сын — Нильс, этот унаследовал отцовское ремесло.
Тёгер сильно обрадовался возвращению Миккеля. Усевшись на сундуке, он пустился с ним в разговоры. Глядя на ноги Тёгера, Миккель увидел, что они совсем скрючены подагрой. На широком волевом лице с безжалостной отчетливостью проступила печать одряхления, особенно заметная, потому что старик в душе был взволнован свиданием с сыном.
— Ишь ты каким франтом вырядился! — сказал Тёгер, шутливо подмигивая на красные кожаные штаны Миккеля.
Миккель потупился, как бы стесняясь принимать на свой счет дань восхищения.
— Верно тебе говорю! Одежда хоть куда — добротная! — стоял на своем Тёгер. — С лица-то, конечно, малость спал от учения… А нос, тут уж ничего не скажешь, сразу видать — мое наследие, — добавил отец, ласково усмехаясь.
Тёгер тоже отличался необычайно длинным и горбатым носом, который загибался книзу, точно кабанье рыло, и заканчивался подобием пятачка; эта особенность придавала лицу Тёгера выражение чрезмерной проницательности, которое унаследовал от него Миккель. Впрочем, Тёгер и в самом деле был на редкость толков, многое уразумел, дойдя своим умом, любое дело давалось ему легко благодаря природным способностям. В молодые годы он с увлечением предавался занятию, которое сам он называл варкой. В детстве Миккель не раз наблюдал, как отец кипятил на огне необыкновенные смеси из шерсти, свинца, красноватых камешков и мышиных зубов. Но теперь Тёгер совершенно забросил это увлечение. С годами у него как-то сама собой прошла охота к поискам философского камня, что и вспоминать — дело прошлое.
— А знаешь, я ведь собирался делать золото! — шутливо сказал Тёгер, его признание точно ножом полоснуло Миккеля по сердцу, ибо оно всколыхнуло память о невозвратно прошедших днях. — Но золото мне ни разу не удалось получить. В последний раз я принимался за это, дай бог памяти… Да, давненько же это было! В последний раз я наконец нашел то, что надо! Взял я, понимаешь ли — ха-ха! — да и бросил однажды в котел с варевом еще и бумажку, на которой был записан рецепт. Ну, думаю, теперь-то уж наверняка должно у меня получиться! А рецепт я купил у одного оружейника из Штеттина. Страшно вспомнить, сколько лет с тех пор прошло! Так он и сгинул, значит, и ни одна душа его не видела. Он сам еще и разобраться мне помог в рецепте, объяснил, что к чему. А я сварил рецепт в котелке вместе со всеми прочими сильными снадобьями. Золота у меня не получилось. Какое там золото, сынок! Ну, а потом со временем все как-то само собой улеглось.
Состарился Тёгер-кузнец. Его шишковатая лысина начала зарастать младенческим пушком, окладистая борода отросла возле ушей длинными стариковскими космами и вся поседела. Лицо Тёгера было покрыто бледными пятнами выцветшей кожи, да и руки были ими усыпаны.
Иной раз Тёгер и сам делал какую-нибудь поковку в кузнице — по большей части он только присматривал за горном, — а хмурый, покрытый копотью Нильс становился тогда к мехам. Тёгер работал молотом хладнокровно, удары его ложились точно; надменно выпрямив спину, старик поглядывал на свою работу свысока, потому что с годами у него развилась дальнозоркость. Однако с каленым железом он расправлялся по-прежнему ловко. Сил у него хватало ненадолго; через полчаса он бросал работу и, делая вид, что вспомнил о чем-то важном, уходил в дом. Там он отсиживался, хватая ртом воздух и стараясь скрыть от всех предательскую одышку.
— Вот, погляди-ка, что у меня тут есть, — заговорил однажды старик и стал торопливо рыться в шкатулке, полной старых пуговиц и кусочков металла. — Куда только она запропастилась? У меня тут лежала негодная монета, вот только не завалялась ли! И куда она могла подеваться? Я ее несколько лет берег к твоему возвращению. Я сам не могу прочесть, что на ней написано, не потому, что вижу плохо, а потому, что надпись латинская. Вот она. Я ее нашел в земле. Ну-ка, Миккель! Какая там надпись?
Миккель, у которого на глаза набежали слезы, деловито нагнулся над позеленевшей монетой и разобрал надпись.
— Пускай она тебе и останется, — сказал Тёгер, чрезвычайно довольный ученостью сына. — Это настоящее серебро.