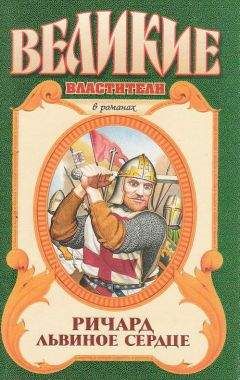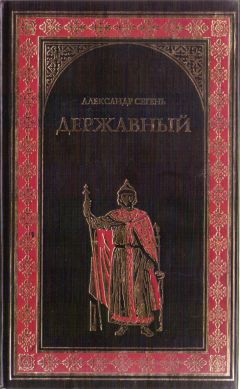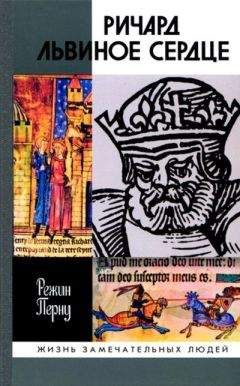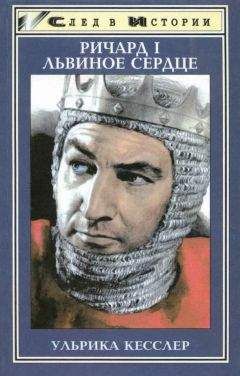— Без меня? — вспыхнул Ричард так, что многим померещилось пламя в его буйных рыжих власах.
— Именно поэтому я и осмелился оторвать вас от Божьей службы, дабы возвратить к службе военной, — с чувством произнес граф Ролан. — Дело не терпит отлагательств.
— Докладывайте, из-за чего все произошло, — приказал король, направляясь к воротам монастыря, у которых толпились вооруженные рыцари и уже стоял в полной сбруе и доспехах его конь.
— Из-за полнейшей чепухи, — отвечал де Дрё. — Сэр Леонард Глостер, рыцарь вашего величества, вознамерился сегодня утром отправиться на мессинский рынок. Сказывают, он поспорил со своими вчерашними собутыльниками, что покажет мессинцам, какими дровами топится его печь. Явившись в хлебные ряды, он тотчас стал доказывать первой попавшейся торговке, что ее хлеб не стоит и десятой доли того, сколько она за него просит. Ссора вспыхнула мгновенно, и дрова в печи у Глостера дружно занялись. Он выхватил меч, но тотчас был ловко обезоружен, побит и брошен в выгребную яму.
— Мертвый?
— Благо что живой. Безоружный, с расквашенным носом, он вернулся в стан, а поскольку его все любят, забияку, то все пришло в движение. Говорят, жители Мессины, спохватившись, — обидели-то не слугу и не оруженосца, а благородного рыцаря! — заперли все городские ворота, вооружаются и спешат на башни и стены.
— Сэр Глостер — не сын ли Ричарда Глостера? — спросил Ричард, вспоминая вчерашний рассказ Робера о турнире в Жизоре.
— Сын, — подтвердил граф де Дрё.
Вскочив на коня и выехав за монастырские ворота без доспехов и оружия, Ричард увидел свои войска в полной решимости двигаться на город: конский топот и ржание, лязг, пламенные выкрики, хлопанье знамен на осеннем ветру. Выхватив у одного из пехотинцев длинную палку, оснащенную на одном конце железным шаром, он устремился к передним рядам, подскакал к одному из рыцарей, чья лошадь то и дело вздымалась на дыбы, будто ее больше всего обидело поведение мессинцев, и с размаху ударил ретивого вояку железным концом ослопа по плечу.
— Кто король? — крикнул он при этом. Рыцарь, в котором сквозь мглу гнева Ричард только теперь узнал молодого Генри Ланкастера, обиженно моргал, хватая ртом воздух. — Я спрашиваю, кто ваш король, негодяи?! — снова взревел Львиное Сердце и ударил своей легкой дубинкой другого рыцаря, кажется Джона Онриджа.
— Да здравствует король Ричард! — воскликнул тот, гораздо быстрее взяв себя в руки, нежели Ланкастер. — Да здравствует Львиное Сердце!
— То-то же! — рыкнул Ричард, отбрасывая палку в сторону. — Какие мухи вас покусали, воины Англии? Прекратить сумятицу! Приказываю строиться и по всем законам военного искусства начинать дело.
Стихийное выступление обиженных англичан было сбито. Началось построение войска, которое не могло остаться незамеченным с мессинской стороны. Ближе к полудню в лагерь явились городские нотабли Йордан Люпин и адмирал Маргарит с сообщением, что им удалось успокоить горожан и что им поручено пригласить вождей крестового воинства завтра утром на переговоры.
— Никаких переговоров, — возразил Ричард: — Я намерен немедленно идти на город, чтобы забрать то, что мне причитается по наследству.
— Об этом нам тоже поручено сообщить вашему величеству, что городские нотабли полны решимости самостоятельно взять на себя ответственность за выплату наследства Гвильельмо Доброго. Это будет в первую очередь вынесено на обсуждение на завтрашних переговорах.
— Вот как? — удивился Ричард. — Стало быть, граждане Мессины намерены уплатить то, что должен был уплатить их сюзерен?
— Можно сказать, что так оно и есть.
Поморщившись и сделав вид, что ему страшно не хочется откладывать взятие города, король Англии все же согласился ждать завтрашних переговоров.
— Но учтите, — сказал он на прощанье, — если завтра в полдень я не получу свою долю наследства Гвильельмо, мои войска обрушатся на Мессину подобно лаве вулкана.
Вечером на военном совете Ричард в присутствии военачальников, среди которых были Джон Эйвон, Жан де Бриенн, графы Дрё, Бар и другие, обсудил план завтрашних действий на случай, если переговоры с нотаблями не принесут желаемых результатов. По окончании совета король уселся в той же комнате с камином, что и вчера, и с теми же друзьями. Позвал к себе Леонарда Глостера и, когда тот явился, сказал ему:
— Ваша безрассудность не делает вам чести, сэр Глостер.
— Приношу свои искренние извинения, сэр Плантагенет, — с усмешкой во взоре отвечал тот. Он, быть может, имел бы и дерзость улыбаться при этом, но губы и нос у него были здорово разбиты.
— Однако не обольщайтесь, полагая, что вы такой уж храбрец, — добавил Ричард. — Вами руководило Провидение, выбравшее сей день для открытой стычки с мессинцами. Желаю вам завтра отличиться в сражении и не побывать еще раз в выгребной яме. Ступайте.
Когда Глостер удалился, Ричард с друзьями принялся пить вино. Вскоре разговор снова зашел о восточном сенешале ордена тамплиеров, Жане де Жизоре.
— Что он тут делает? — вопросил Ричард, — Разве мало дел в левантских комтуриях?
— Да, тут что-то нечисто, — молвил Амбруаз.
— Я вот все думаю, — продолжил король. — Почему он, добившись столь большой власти в знаменитом рыцарском ордене, до сих пор не сделался великим магистром?
— Он явно не хочет этого, — сказал Робер. — Ему выгодно проталкивать на самую вершину ордена не самых лучших и далеко не самых умных членов Ковчега [35]. Причем именно таких, которые готовы будут слушаться его советов. В этом есть существенное отличие власти монаршей от власти орденской, заключающееся в том, что последняя не является наследственной и зачастую лишена благодати.
— Увы, — вздохнул Ричард, — и монаршья власть часто бывает безблагодатной.
— И все же есть в любой монаршей власти Божье соизволение, если не благодать. А то, что происходит в последние годы с орденом тамплиеров… Я уверен, что поражение под Хиттином и утрата крестоносцами Иерусалима — тоже плоды деятельности Жана де Жизора. Одно только не могу понять, — задумчиво почесал бороду коннетабль Робер, — как это Жан допустил, что вы, ваше величество, срубили его священный вяз, знаменитое древо Жизора.
— Даже самый лучший конь иной раз спотыкается, — сказал король Англии. — Ничего, еще представится случай обломать ноги этой жизорской коняжке. Никогда не прощу ему убийство бедного Клитора.
— Клитора? — удивился Герольд де Камбрэ.
— Имеется в виду маркиз Мишель де Туар, — сказал Амбруаз.
— Я слышал, что Жан убил некоего маркиза де Туара, — молвил Робер де Шомон. — Хотелось бы послушать об этом убийстве, если эн Ришару угодно будет рассказать.
— Это было при дворе Раймона Тулузского, — откликнулся на просьбу тамплиера король. — Мне было одиннадцать лет, когда я впервые приехал туда, в столицу трубадуров. Каких только замечательных кавалеров и дам там не было! Я сразу же напрочь забыл, как еще недавно вместе с мамушкой Шарлоттой потешался над нравами тулузцев. В первый же день я попал на большое состязание трубадуров в честь прекрасных дам и поразился изяществу обхождения, блеску бесед и изысканности одежд. Тогда только что стали носить верхние одежды из полосатых тканей, сочетающие в себе белое с зеленым, красное с зеленым, синее с белым и красным, красное с желтым и черным. Сам патрон ордена странствующих трубадуров, граф Тулузский, восседал на троне, поставленном на возвышении. Как сейчас помню — на нем было белоснежное блио с золотыми и черными ломаными полосами, плечи покрывала горностаевая пелерина, а голову — пурпурная шапка с горностаевым околышем. Великий магистр ордена трубадуров Бернар де Вентадорн стоял посреди зала в широком ярко-красном пелиссоне, отороченном мехом, и играл на огромной скрипке, а двое жонглеров сладостными голосами распевали его новую кансону. Здесь же были прославленные Арнаут де Марейль и Арнаут Даниэль. И Альфонс Арагонский, влюбленный в дочь Раймона, Аделаиду. Она стояла неподалеку. И Сайль д’Эскола со своей возлюбленной, Айнермандой де Нарбонн. И конечно же великий мастер придумывать людям меткие сеньяли виконт Аутафортского замка Бертран де Борн. И многие другие знаменитые трубадуры, молва о которых распространялась по всей Франции, Англии, Испании, Италии и даже Германии. Все они сверкали со вкусом составленными нарядами, за исключением Мишеля де Туара, который был наряжен как павлин или попугай и так же глуп. Он стоял неподалеку от моей матери, сидящей в кресле и одетой по-византийски в тунику, расшитую жемчугом и золотом далматику и так же раскрашенный лорум [36].
— Вы помните все в таких подробностях! — восхитился Робер. — Я бы никогда в жизни ни за какие награды не упомнил бы, кто во что был одет сегодня утром, а вы, эн Ришар…