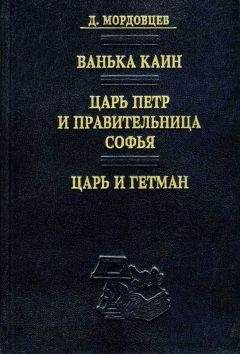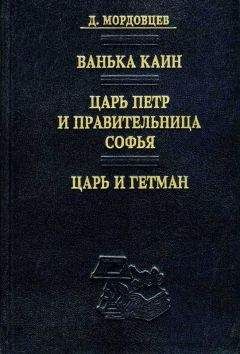— А який, вин, няню, из себе?
— Великий та понурый, а очи — оттаки, а вусы — сиви та довги, мов рогачи…
И старуха, сидя на полу, показывала, какие огромные глаза у Палия и какие длинные усы.
— Що ж вин робе, няню?
— Татар, та ляхив, та жидив бье. Ему так вид Бога наказано…
— А сам вин добрый?
— Такий добрый, рыбко моя, такий добрый, що и сказати неможно… Бо вин од святой золы уродивсь…
— Як од святой золы, няню?
— Так — од золы… В его й батька не було — тильки мати…
— Як же ж се, няньцю, я не розумию.
— А от як, рыбко моя… Оце був соби чоловик та жинка, а в их дочка Оленка. От и поихав той чоловик у поле орати. Оре та й оре — коли хрусь! — щось хруснуло пид плугом у земли… Дивиться чоловик — аж то голова чоловича, та така велика голова, мов казан… От и дума той чоловик: «Се мабуть великого лицаря голова, такого лицаря, що вже давно перевелись…» От вин и взяв ту голову — дума: «Нехай батюшка пип над нею молитву прочитав, та помьяне, та водою свяченою скропить, та по-християнськи поховае…» Приихав до дому той чоловик и голову с собою привиз та й положив ии на лаву, а сам сив вечеряти… Повечеряв — а голова все лежит на лави. А жинка, глядючи на голову, и каже: «Мабуть, голова ця на своим вику богато хлиба переила». А голова й каже: «Буде вона ще исти…»
— Ох, няню! Се мертва голова сказала? — с испугом спросила Мотренька, поглядывая на окно.
— Та мертва ж, рыбко.
— Ох, як страшно!
— Чого страшно, рыбко? Се од Бога.
— Ну, няню?
— Ну голова й каже: «Буду я ище исти…» От жинка та як злякаеться, та у пич ту голову й кинула… И стала та мертва голова билою золою… Выгрибли золу у горщик — поставили на лави, щоб москалям на поташ продати… А дочка того чоловика, що найшов голову, не знала, що то зола — думала, що силь, та й посолила соби кусочок хлиба — так маленький шматочок — и ззила… Та важкою ото и стала…
— Важкою, няню? Як се б то?
— Важкою, рыбко… Ты сего не знаешь ще… Бог ий сына дав… од золы…
— Ну, няню, — се казка…
— Яка казка!
— Та казка ж, няньцю…
— А Палий казка?
— Ни, няню, — Палий не казка.
— Так то, бач, рыбонько, и був сам Семен Палий — от золы родився… Тоди вин ще не був Палий, а просто Семеник Гурченко, бо его мати була Гурченкова… Той чоловик, що найшов мертву голову, був Гурко.
— Який Гурко? Що в Борзни?
— Та вин же ж борзеньский, рыбко… Ото Гурки в Борзни — то его родичи по матери та по дидови, а сам вин од золи родився, вид попилу… Ему б, бач, треба було бути Золенком, або Попилченком, а вин сам себе зробив Палием…
— Як же ж се, няню?
— А от як, рыбко… Як той Семеник, що вид попилу родився, став парубком, от и захтив козакувати: «Пиду, каже, мамо, та пиду в Запороги». От и пишов. Йде — йде, дивится — Запороги стоят, горы страшенни. А на горах тих запорозци стоять та й дивлятся — смиются: як-то вин, молоденький хлопчик, на гору страшенну злизе… Бо посередини гори, рыбко, на великому камини сидит — не к ночи будь сказано — сидит сам… — Старуха остановилась.
— Хто сам, няню?
— Та чорный, рыбко.
— Який чорный?
— Та нечистый, сказать бы, — чортяка…
— Ну? Се впьять казка, няню…
— Ни, не казка, рыбко… От сидит та козинячими нижками тупотить та рогами в гору бье…
Мотреньке вспоминается козел, который сегодня шел на нее, потрясая бородой и рогами, и ей стало смешно…
— Так у его, няню, роги, як у цапа?
— Як у цапа, рыбко… От вин сидит, та нижками тупотить, та рогами в гору бье… А Семеник як стрелит из мушкета, як загуркотит по горах, — дивляться козаки, аж там, де сидив нечистый, одно поломья паше та смола пекельна — кипит… Се бач, Семеник чорта убив — спалив его. От запорозьци й кажуть: «Оце так козак! Оце так Палий — самого чорта спалив». А кошовый и каже: «Ну, брате, буде же ты Палием, та йди на Вкраину, та пали от так усяку нехрист, як ты дидька лисого спалив». И с того часу став вин Палием.
— Ах яка бо ты, няньцю, — возразила Мотренька, — та се ж не про Палия разсказуют, а про святого Юрия, як вин чорта спалив.
— Эге, рыбко, то таки святый Юрко, а се — Палий… От и пишов Палий за Днипр на Вкраину. Иде та й иде. Як оце побаче татарина, так зараз из мушкета — лусь! — и вбив татарина. А як побаче ляха, то зараз шаблюкою — брязь! — и стяв головку у ляшка. А як побачит жидовина, то зараз на аркане его, та на осину и повисит, як собаку… Так од самого Запорожжа до Вкраины и проложив великий шлях: зараз знати, де йшов Палий — оце тут татарин застреленный валяеться у степу, а тут лях порубаный лежить, а тут жидовин повишеный висит — так и знати Палиеву дорогу… А сам вин — Мати Божа! — такий, що его ни куля не бере, ни шабля не вруба, мов зализо. А оце як начнуть козаки с татарами або з ляхами битись, то Палий сам гарматы заряжае навхресть — и бье за двадцать верст, а чужи гармати до его не достают. А кинь у его такий, що ледве земля его держить, а на простого коня вин только руку положит, так той кинь на землю пада. А шабля в его в пьять пуд-таки важка. Як оце який козак провинится, то Палий и дае ему свою шаблю нести, так той бидный аж стогне — не пидниме нести, а други козаки за его смиются… Оттакий-то, рыбко, той Палий…
А «рыбка» между тем, слушая болтовню старушки, спала крепким сном. Упав горячей головой на руки, положенные на подоконник, она долго прислушивалась к щелканью соловья и к монотонному говору старой няни; перед нею проходили, словно в тумане, образы Палия и Мазепы, которые сливались как бы в одно лицо, и только у Мазепы старые глаза искрились слезою — и Мотреньке стало его жалко-жалко… То выступал этот молоденький белокурый сердючок с пышною розою на шапке, то шел на нее никогда не виданный ею москаль Петр в виде огромного «цапа»… И сон неслышно подкрался к ней под щелканье соловья, так что когда няня подошла к ней, то увидала только белую спину, до половины прикрытую белою сорочкой, да черные косы, густыми прядями лежавшие на подоконнике… В окно уже заглядывала заря чудного, просыпающегося утра…
— А воно вже й спит… От дурна дитина! — тихо бормотала старуха, качая головой. — От дурне! Як же ж я его теперь положу на лижко — вже мени его не пидняти на руки: славу Богу — выросло… Он яке, спасибо Богови, выгодавалось: здоровеньке та повнотиле та кругленке, мов яблучко червоне, и не вщипнешь его… А де ж его подняти! Мене, стару, переросло… О-о-хо — хо!.. А чи давно ж его на руках носила, кашкою, мов горобчика, годувала?.. Молоде росте, як твой мак цвите, та як мак и опадае: сонечко пригрие, витрец повие — весь цвит розвие… Поки дитина, поти й горя не знае, писни спивае та в косу стрички заплитае… Спи-спи, дитятко, поки косою свитешь, горенька не знаешь… А прийде час — и его пизнаешь…
— У могили темно-темно, — слышится сонный лепет девушки.
— Господь с тобою, рыбонько, — яка могила…
— Гетьман могилу шукае…
— И нехай шукае… Може й могила его шукае давно, та не найде… А ты, дитятко, лягай спати…
— Я, я, няню, сплю…
Старушка тихо приподняла голову панночки. Та не сопротивлялась.
— Иди ж, рыбко, лягай…
— Иду, няню… нехай соловейко щебече, а я буду спати…
— Спи, спи, мое золото червоне…
Девушка, придерживаемая старухой, улыбаясь сквозь сон, перешла на кровать.
— Нехай соловейко щебече, а ты кажи про Палия, — бормотала она в полусне.
Недаром занимал Палий и Мазепу и Мотреньку. В одинаковой мере он занимал и царя Петра, когда он, твердо ступив своею пятою на берег Невы и воткнув трезубец Нептуна в пасть Швеции, мечтал уже поразить этим трезубцем и турецкую пасть в устьях Днепра.
Что же был Палий для Петра и Петр для Палия?
Палий действительно был борзенский казак, как уверяла и Устя, старая няня Кочубеевны. Родовая фамилия его действительно была Гурко, а уже после, по народному обычаю, он получил прозвище Палия, с которым и перешел на страницы истории, как последний представитель исторически вымиравшего казачества «тогобочной», правобережной, Украины, хотя сам родился в левобережной Украине.
Тихим, добрым, ласковым «хлопчиком» рос Семеник Гурченко в своем родном городишке. «Хлопчик» этот всегда казался робким, застенчивым, и если его и любили товарищи — хохлята, то именно не за казацкие качества, а за то, что он был добрый и деликатный, «як дивчинка». Обыкновенно эти качества не нравятся сверстникам, таких они называют «мизями», «плаксами» и другими подобными укоризненными «дражнениями». Но Семеника Гурченко, напротив, любили за эти качества, потому что с восковою мягкостью характера в нем амальгамировалась необыкновенно стойкая честность, самоотверженность и беззаветная доброта. Не умея плавать, он бросался в воду вытаскивать утопающих товарищей, голодный сам, он отдавал свой кусок голодной собаке, и чем существо, взятое им под покровительство, было жальче и беззащитнее, тем более убивался над ним Семеник. Под внешней робостью и застенчивостью в нем крылись поэтические инстинкты, и он любил степь больше, чем обработанное поле, горы и леса предпочитал садам Борзны, а пустыню его воображение населяло целым миром таинственных существ.